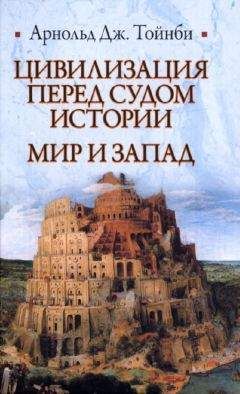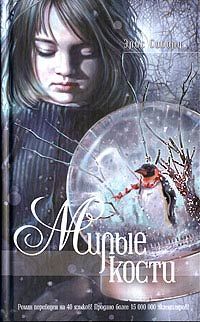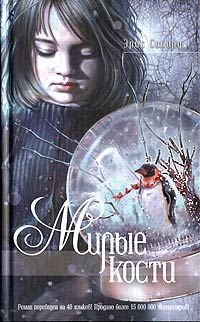Элис Сиболд - Милые кости
Возвращаясь в свою половину дома, я проходила под старинными фонарями, какие видела только раз в жизни, когда ходила с родителями на спектакль «Наш городок». С железных столбов полукружьями свешивались желтые шарики. Они мне врезались в память, потому что на сцене эти фонари казались наливными ягодами, истекающими светом. На небесах я придумала себе игру: выбирала под фонарями такие места, где моя тень на ходу сшибала ягоды.
Как-то раз, понаблюдав за Рут, я столкнулась с Фрэнни, которая застукала меня за этой игрой. На площади никого не было, только ветер кружил опавшие листья. Я остановилась и посмотрела ей в лицо, на добрые морщинки у глаз и в уголках рта.
— Да у тебя озноб, — заметила Фрэнни.
Хотя в воздухе висела холодная сырость, причина была не в этом.
— Все время думаю о маме, — сказала я.
Сжав ладонями мою левую руку, Фрэнни улыбнулась.
Мне захотелось легонько поцеловать ее в щеку или сделать так, чтобы она меня обняла, но пришлось просто глядеть ей вслед, провожая глазами голубое платье. Я ведь знала, что она мне чужая, а притворяться не умела.
Развернувшись, я зашагала обратно, в сторону башенки. От влаги, скопившейся в воздухе, руки-ноги покрывались гусиной кожей. Мне вспомнились утренние паутинки с бриллиантовыми каплями росы, которые я когда-то бездумно стряхивала легким движением запястья.
Когда мне исполнялось одиннадцать лет, я проснулась на рассвете. Все еще спали, а может, так показалось. На цыпочках спустившись вниз, я заглянула в столовую, где рассчитывала найти подарки. Но нет. На столе было пусто. Я поплелась обратно, и вдруг мой взгляд упал на мамин письменный стол в гостиной. Его затейливая столешница всегда была отполирована до зеркального блеска. «Столик для квитанций» — так его называли родители. Сейчас там лежал раскрытый бумажный сверток, а в нем — вещь, которую я клянчила давно и без всякой надежды: фотоаппарат. Подойдя вплотную, я стала разглядывать его сверху. Это был «инстаматик», а к нему три дополнительные пленки и коробочка с четырьмя вспышками. До этого у меня вообще не было никакой техники. А тут появился ключик, открывающий двери в профессию моей мечты, фотосафари.
Я покрутила головой. Никого. Выглянула на улицу сквозь полуопущенные реечки жалюзи (мама всегда оставляла их в таком положении: «нам скрывать нечего, а напоказ выставлять — тем более») и увидела, что с нашим домом вот-вот поравняется Грейс Таркинг, которая жила на той же улице, но училась в частной школе. Сейчас она шла спортивным шагом, со специальными отягощениями на лодыжках. Я торопливо зарядила фотоаппарат и стала ее подкарауливать, как в будущем собиралась подкарауливать слонов и носорогов. Пока еще меня скрывали оконные рамы и жалюзи, но в моем воображении это были высокие заросли тростника. Подобрав свободной рукой подол длинной ночной рубашки, я затаила дыхание (в голове крутилось: «чтобы себя не выдать») и не пропускала ни одного ее движения — крадучись перешла из гостиной в холл, а потом и в чулан, выходящий окном на другую сторону. Спортивная фигура стала удаляться, и тут меня осенило: побегу-ка я на задний двор, оттуда можно следить за ней без помех.
На цыпочках я побежала к черному ходу — и обнаружила, что дверь на крыльцо распахнута настежь.
Увидев маму, я мгновенно забыла про Грейс Таркинг. Боюсь, не смогу это вразумительно объяснить, но я никогда прежде не видела ее в неподвижности, с каким-то отсутствующим взглядом. Она сидела на складном алюминиевом стуле, лицом во двор. У нее в руке было блюдце, а на нем — ее любимая кофейная чашка. В то утро на краях чашки не было следов помады, потому что мама еще не успела навести красоту для… кого? Мне никогда не приходил в голову такой вопрос. Для папы? Для нас? Холидей, со счастливой мордой сидевший у пруда, меня не замечал. Он смотрел только на мою маму. А она смотрела в бесконечность. В тот миг она была даже не мамой, а каким-то отдельным от меня существом. Я уставилась на это отдельное существо, которое прежде мыслилось только как Мамочка, и разглядела мягкую, матовую кожу — матовую не от пудры, мягкую не от крема. Глаза и брови образовывали единый контур. «Глаза-океаны», — подлизывался к ней папа, чтобы получить хоть одну вишню в шоколаде из заветной коробки, которая хранилась в баре специально для мамы. Теперь я понимаю, почему он так говорил. Раньше я думала — потому, что у нее глаза синего цвета, но в тот миг мне стало ясно: они бездонные. Это меня и напугало. Повинуясь какому-то инстинкту, а не голосу рассудка, не дожидаясь, пока меня увидит или учует Холидей, пока рассеется над травой росистый туман, окутавший мою настоящую маму, и она проснется такой, как всегда, я сделала первый кадр новехонькой фотокамерой.
Когда из фотоателье «Кодак» доставили увесистый пакет с проявленной пленкой и отпечатанными снимками, я мгновенно уловила разницу. Только на одной-единственной фотографии получилась Абигайль. На самой первой, где она была застигнута врасплох, еще не разбуженная щелчком затвора и не превратившаяся в маму именинницы, владелицу счастливого пса, жену любящего мужа, маму еще одной дочки и последнего, позднего ребенка — сына. Хозяйка дома. Любительница цветов. Приветливая соседка. Глаза-океаны, а в них крушение. Я-то думала, у меня впереди целая жизнь, еще успею разобраться, но оказалось, на это отпущен только один день — тот самый. Только единожды в земной жизни она предстала передо мной как Абигайль, а потом я без труда отправила тот непонятный случай на задворки памяти: для меня куда важнее была настоящая мама, которая по-настоящему окружала меня собой.
Пока я сидела в башенке, вспоминая тот первый кадр и размышляя о маме, Линдси среди ночи встала с постели и прокралась в холл. Я следила за ней, как за киношным грабителем, который рыщет по незнакомому дому. Вот она взялась за ручку моей двери, и я уже знала: дверь сейчас отворится. Я уже знала: она войдет ко мне в комнату, но с какой целью? Моя неприступная крепость и так стала ничейной территорией. Мама там ничего не трогала. Даже кровать осталась незастеленной — в день своей смерти я убегала второпях. Просторная пижама в цветочек валялась среди простыней и подушек, а на одеяле были разбросаны скомканные вещи, которые я в последний момент забраковала — предпочла желтые расклешенные брюки.
Ступая по мягкому ковру, Линдси подошла к моей кровати и пощупала темно-синюю юбку, а потом вязаный крючком голубой джемпер — надоевшие тряпки. У нее был точно такой же джемпер, только оранжевый. Ее руки подняли и бережно расправили голубой ком. Отстой. И в то же время — драгоценность. Мне было видно, как сестра его гладит.