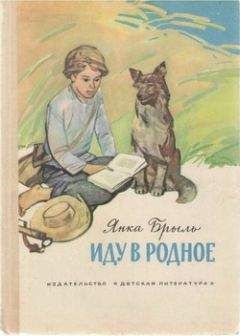Галина Шергова - Синий гусь
Впрочем, когда графин осушили, все разгорячились, распахнулись и потребовали от Яши-баяниста, сидевшего на углу стола, музыки для танцев. Он послушно поднял лежавший у ног баян и удручающе фальшиво начал выводить мелодию, в которой при большом напряжении можно было опознать «Офицерский вальс».
Я сорвал с себя пальто и жестом Паратова-Кторова в фильме «Бесприданница» швырнул одеяние к ногам Зюки. Зюка слегка нахмурилась, не двинувшись с места, но сидевшая подле нее Зоечка немедленно вскочила, стряхнула с плеч накидку и с победным лицом Ларисы — Алисовой из того же фильма протопала каблуками по пальто.
— Ой, девка, нехорошо — вещь денег стоит, — покорил ее Степан Степанович Степанов и, сняв свой латаный ватник, аккуратно положил его возле себя на скамейку.
Я подхватил Зоечку и, прижав к груди, закружил в вальсе. Ноги ее не доставали до пола, но она не визжала, не хохотала, а с тем же победным лицом неслась над грязным дощатым полом. Лицо Зоечки то всходило перед моими глазами, то уплывало в сторону, и теперь, как, впрочем, и лицо Сереги, оно не представлялось мне оранжевым блинчиком, как в ночь фантастического знакомства. Даже странной похожестью с другими лилипутскими физиономиями их лица не казались мне объединенными. Если и было во всех них некое сходство, то сходство, естественное для семьи — братьев и сестер или долго и согласно проживших жизнь мужа и жены.
— Ну а вы? — крикнул я сидящим. — Танцуют все!
— Попробуем? — робко спросил Коляня Зюку. — Только, извиняюсь, я не очень умею.
Зюка поднялась.
— Все, все! — кричал я, подкидывая на пируэтах Зоечку. — А вы что же так неактивно, право? — Я видел, как Матильда Ивановна повела свое обширное тело на молоденького хлипкого мужичка, что примостился наискосок от баяниста.
Тот вскинул на нее испуганный синий взгляд, синева этого взгляда была так насыщенна и пронзительна, что я даже с расстояния почувствовал, будто меня окатило ею.
— Не можем, — тихо сказал синеглазый, — нога у меня минкой поврежденная. Плохая ножка.
Мы кружились вчетвером. Собственно, кружились мы с Зоечкой, Коляня, с трудом проворачивая бессистемные па, топтался на месте, не сводя с Зюки остекленевших глаз. В какое-то мгновение я увидел, как Зоечка поймала каменное Колянино лицо и, вдруг выскользнув мягким акробатическим движением из моих объятий, вернулась к столу. Серега, подпрыгнув на скамейке, освободил ей место.
Баянист выдал в верхнем регистре астматический стон, смолк. Налили по новой.
— За искусство, — я поднял красный стаканчик, — за Матильду Ивановну, проповедника красоты и радости!
— Ну что вы! — счастливо замотала головой Матильда Ивановна. Ее русые густые волосы были стянуты на затылке резинкой от аптечного пузырька. Годы спустя я видел, как многие женщины так же обращались со своими прическами, но я гарантирую, что родоначальником этой моды была лилипутская начальница. — Но вы правы: искусство — это все! — Матильда Ивановна протянула ко мне свой стаканчик, желтый, держа его двумя пальцами.
Тут синеглазый, молчавший весь вечер, вдруг воодушевился:
— Куда ж без искусствочка-то! Человек без него, как червячок. Взять хоть чашечки. Что без них Вялки? Деревенька, она деревенька и есть, — он весь мир населял предметами с их уменьшительными, ласковыми именами: — А чашечки Вялки чем делали? Фарфоровая столица-матушка!
— Из наших, из фарфоровых мастеров, Курихин Петр Семенович, — наклонившись ко мне, пояснил Степанов. — Тут ведь знаменитый завод был, многие по художеству шли. Теперь горшки крутим. А он большое художество в себе имеет. По дереву пилит.
— Так все эти резные буквы, рамочки, наличники — его работа? — догадался я.
— Его, железно, — подтвердил Степан Степанович. — С фронта пришел раненый. Чем в нашей бесхозности заняться? Вот режет.
— Искусство — счастьице человеческое, — заключил Курихин, — так что надо почитать Матильду Ивановну, верно вы сказали.
Матильда Ивановна стремительно нырнула рукой за шею, сорвала резинку, волосы изобильно хлынули ей на плечи.
— Влюбилась, — констатировал шепотом Степанов, — в Курихина, выходит, влюбилась. У нее это первый знак: как сорвет резинку, значит, в кого влюбилась.
— Так за Матильду Ивановну! — я потянулся к стоящему перед Курихиным нетронутому за все застолье стаканчику, как по заказу — синенькому.
— Мы не выпиваем, — застенчиво прикрыл стаканчик ладонью Петр Семенович.
— Так за Матильду Ивановну — передвижника наших дней! — настаивал я.
— Разве что ради чести вашего удовольствия, — сказал Курихин, пригубил и мучительно дернулся.
— За вас! — вскричала Матильда Ивановна, волосы ее метались, как некошеное поле под ветром. — За вас, дорогой Петр Семенович, за вашу чистую художественную душу!
Зачокались, зашумели. Только Коляня не двигался, с тем же остановившимся лицом он смотрел на Зюку. Нет, он смотрел на Гражину. А Зюка, Зюка — смотрела на меня. И я сказал ей, всем:
— За любовь! Ибо, как утверждал Александр свет Сергеевич, солнце русской поэзии: «Одной любви музыка уступает, но и любовь — гармония!»
Коляня взметнулся:
— За любовь! — он кособоко тянулся своим стаканчиком к курихинскому. — За любовь пьем, Семеныч! Понял-нет?
Тут Зоечка выронила на стол полный свой сосуд, упала головой на стол и в голос зарыдала. Все смолкли.
— Дура, никакой гордости, — сказал в тишине Серега. — Не позорь. Нам гордость нужна.
Водка растеклась по кумачу, проявив, как на переводной картинке, букву О, намалеванную на лицевой стороне ткани, газетные салфеточки, точно промокашки, подлизывали мокрые пятна.
— Ну что вы, Зоечка, — я наклонился, обнял ее за плечи, она выдернулась, подняла голову, потом снова уткнула ее в самую сердцевину буквы О.
— Оставьте, — дрогнула пальцами Матильда Ивановна и обратила в сторону Коляни искаженное мучительным состраданием лицо: — Бедная девочка! Это такое страдание!
«А Коляня-то наш — сердцеед. На собрании с ним заигрывали, вот лилипутское сердце разбито о Колянину неприступность!» — пронеслось у меня в голове. «Лилипутское сердце разбито! Лилипутское сердце разбито!» — тупо повторял я про себя. И вдруг эта идиотская фраза, не что-либо иное, а именно эта фраза открыла мне безнадежность моего пребывания в Вялках: я ничего здесь не смогу снять.
Спокойно надев пальто — Степанов его предусмотрительно переложил на скамью, — я неторопливо пересек помещение клуба и вышел на улицу.
…Не предупредив, не намекнув на перемены, март взбунтовался. Лишь на одну ночь, может быть, для прощания с землей, март распахнул: все поля, все деревенские улочки и ворота метельному шквалу. Пространство слепо дымилось.
Я опознал железнодорожную станцию по беспомощно шатающемуся свету фонаря над зябко нахохленным домиком и почти на ощупь пошел сквозь снегопад к окошку кассы, сгрузил поклажу на подобие перрона. Я долго стучал омертвевшими костяшками пальцев в безответное маленькое стекло, пока дверка окна не откинулась.
— Чего вам? — спросил сонный голос из невидимого теплого убежища.
— Один билет до областного. Поезд скоро?
— А пес его разберет, — лениво хмыкнуло внутри домика, — он уж час, как должен быть, а все не сообщают. Вы зайдите, погрейтесь, а то когда еще придет, пес его знает.
— Ничего, я не озяб, — соврал я, — дайте билет.
Конечно, было нелепым мерзнуть в бесновании пурги, но мне почему-то казалось, что, увидев меня, этот незнакомый кассир, или начальник станции, или кто уж он там был в одном лице! — все поймет.
Поймет, что я проиграл бой с Кузиным, что я возвращаюсь усмиренный, не нашедший «героики в буднях». Он поймет, что я бегу от Зюки, потому что знаю: такой, поверженный и беспомощный, не смогу заполучить ее навсегда.
Я не мог сказать ей о своем поражении. Я никогда не был в шкуре побежденного. Потому я даже не простился с ней. Пусть думает, что хочет, пусть думает, что хочет.
— Тёма, — сказала Зюка, и ее руки невесомо легли мне на плечи, — я так благодарна тебе. Ты еще лучше, чем я думала.
Возникшая из небытия, ниоткуда, из этой снежной тьмы, она стояла передо мной, и явление ее лица тут, рядом, было так ошеломляюще невероятно, что я даже не мог спросить: «Откуда ты? Как ты поняла, что я уеду?»
Я отмахнулся от нее, как от гоголевской небыли:
— Что ты, что ты…
— Правда, благодарна, — Зюка прижала к моей одеревеневшей щеке свою теплую, — я так боялась, так боялась…
— Чего ты боялась?
— Вранья. Я боялась, что ты будешь снимать какое-нибудь вранье… А ты молодец, ты предпочел поражение перед твоим Кузиным. Но не врать. Спасибо, что ты такой.
Я молчал. А она все шептала прямо мне в ухо:
— И еще я боялась, что ты будешь мне врать, что не женат, или что тут же бросишь жену, лишь бы я осталась с тобой. Я бы все равно осталась. Я же ждала у двери. А ты лег у порога, чтобы не врать. Боже, как я тебе благодарна!