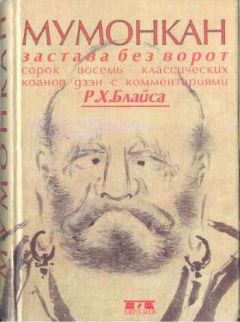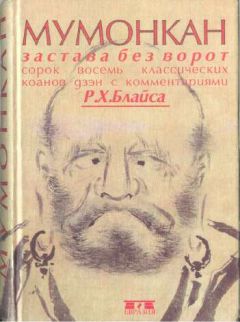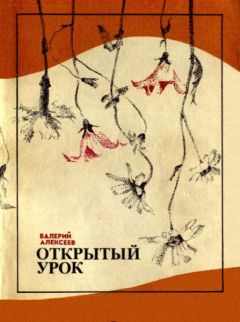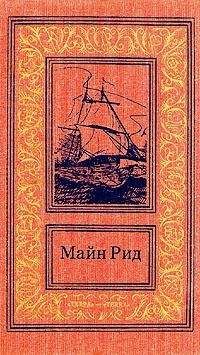Валерий Алексеев - Стеклянный крест
Человечество охотно делится на две части по любому взятому наугад признаку: скажем, на рыжеволосых голубоглазых – и на всех остальных. Но самое кардинальное деление людского рода – это деление на умерших и живых. Где-то я вычитал, что первых намного меньше, чем вторых, это меня поразило: по молодости я истолковал это открытие так, что умершие – это те, которым не повезло, и что, согласно задумке природы, буде она имела место, человек рождается для бессмертия. Этакая аберрация мысли, тем более непростительная, что мудрецы всех времен и народов не устают повторять: ныне живущий, ты временный гость на Земле, а следовательно – человек для бессмертия умирает.
Мне виделись сонмища душ: кроманьонцы, шумеры, античный веселый народ, жертвы инквизиции, узники недавних концлагерей. Я надеялся увидеть здесь – хоть издалека – Александра Великого и Аттилу, Кромвеля и императора Петра. Я не льстил себя надеждой, что буду удостоен общения с Мильтоном, Лютером или Кортесом, но уж вавилонским разноязычьем сумею насладиться вполне. Глупая медсестричка, она меня уверяла, что пациентов здесь раз-два и обчелся: просто она нелюбопытна. Да и в самом деле: что ей Наполеон?
7.
Сама по себе вечность меня не страшила. Слово это имеет пугающий смысл лишь для тех, кто в простоте душевной делит время на настоящее, прошлое и будущее. Нет ничего глупее этого заблуждения. Прошлое не является частью времени: время – огонь, пожирающий реальность, прошлое – зола и уголья этого костра. Будущее – это тоже не время, это лишь предчувствие времени, принадлежащее настоящему и являющееся одной из его изменчивых форм, точно так же, как и прошлое, живя в нашем сегодняшнем представлении, принадлежит исключительно сегодняшнему дню, нам ли, русским, этого не знать? Воображение и память – вот пляшущая оболочка, окружающая наш жизненный костерок, а за этой пляской отблесков – непроглядная темень, даже не темень, хуже, просто ничто. Время – это то, что сейчас, это огонь, который горит, пока горит, а погасший огонь – это, согласитесь, уже не огонь. Чем же отличается ваше время от моей вечности? Только тем, что мой костер уже никогда не погаснет.
Сказанное вовсе не означает, что при жизни, на эмпирическом, так сказать, уровне я времени не членил. Как и все люди, я жил в разлинованном пространстве-времени и свою жизнь делил на периоды, имевшие, естественно, только воображаемый смысл, но для меня значившие куда больше, чем все этапы и эпохи древней, новой, новейшей и наиновейшей истории. Одна минута моей жизни могла бы быть приравнена по значимости ко всем балканским войнам, сколько их было и будет. Что уж тут говорить о целой загубленной жизни: все национальные конвульсии мира, вместе взятые, не перевесят чудовищной тяжести погибшего с одним-единственным человеком мироздания, да чтобы просто уравнять на весах единственную жизнь – нужна вся Вселенная, ни больше, ни меньше. Воистину, господа: не породил еще человеческий дух такой идеи, во имя которой можно было бы загубить хоть одну человеческую жизнь. Это я вам говорю отсюда – и знаю, что говорю.
До маминой болезни (точнее, до того месяца, когда она вступила в обвальную фазу) я жил в блаженном неведении, уверенный, что я такой же, как все остальные, – ну, может быть, чуточку более капризный, болезненный и плаксивый. Я копошился в своих небогатых игрушках, со страхом готовил себя к великому таинству школы – и не подозревал, что взрослые все чаще и чаще с тревогой и жалостью на меня поглядывают. Какую-то боль в позвоночнике я ощущал уже тогда, но откуда мне было знать, что эта боль другим детям неведома, что рибосомы моих клеток уже начали, гримасничая, разбирать по складам страшную инструкцию, зашифрованную в моем генетическом коде. О, будьте вы прокляты, мои предки, зачавшие первого ублюдка, который, выросши, возжелал продолжать свой род – и в этом преуспел. Если бы генетический код предписывал постоянное, от отца к сыну, воспроизведение уродства, череда монстров скоро оборвалась бы, так нет же: со злонамеренным любопытством природа программирует мой проклятый род наподобие электронной игры, где монстр появляется там и тогда, где и когда о нем уже и думать забыли. Вот так явился на свет и я, для родителей мое уродство было совершенным сюрпризом. Сколько я ни пытался дознаться, ни в отцовском, ни в материнском роду в обозримых пределах монстров не значилось… впрочем, я говорю лишь о двух, о трех поколениях, дальше все было погружено в хамскую мглу беспамятства, там, ворча, рыгая и сквернословя, копошились сонмища тупых холопов, не помнивших и не желавших помнить родства. Там и зверское пьянство имело место, и кровосмешение, и снохачество, и людоедство. Вот за эти чужие грехи я и призван был сполна расплатиться – и подвести под ними черту.
Итак, мама слегла, чтобы уже не подняться. У нее был рак матки, страшные боли ее терзали, она стонала и бормотала: "Нет, нет, не надо, не хочу, не надо", – как тогда, в свои брачные ночи, но теперь уж отец был ни при чем, он сидел у ее изголовья, держал ее за руку и говорил тусклым голосом какие-то нелепые обнадеживающие слова. На меня уже никто не обращал внимания. А между тем и со мною начали твориться дела: я чувствовал, что во мне тоже происходит ужасное, что проклятая сила теснит мне грудную клетку, кривит позвоночник, притягивает затылок к спине, и из хилого низкорослого, но вполне ординарного мальчика с треугольным лицом я неотвратимо превращаюсь в урода. Мама знала об этом и, приходя в чувство, подзывала меня к себе, гладила меня по голове, по спине, я с тревогой, пытливо глядел ей в лицо и ощущал, как пальцы ее бегло и боязливо ощупывают мои позвонки.
И вот мама умерла, жалкая трусиха, так и не осмелившись ответить на мой настойчивый, хоть и безмолвный вопрос: правда ли, мама? До последних минут я надеялся, что она поднимется на своих горячих подушках, обхватит меня тонкими руками, засмеется своим тихим и мелким стрекозиным смехом и скажет: "Что ты, что ты, милый сыночек, не бойся, это кажется тебе, это пройдет". Но напрасны были мои ожидания: мама не сказала мне страшной правды, а отец взял и сказал.
Дальше что? Дальше я стал жить, затаившись, прислушиваясь к себе, и временами, собрав силенки, умудрялся убедить себя, что я такой же, как все, что ничего со мною не происходит, но жуткая реальность толкала меня в спину: "Неправда, я тут!" Этой внутренней борьбы никто не замечал: отец погрузился в слезливое пьянство, которое продолжалось целый год, и в первый класс меня собирали какие-то дальние родственницы, а записываться в школу я ходил сам. После, в год красной овцы, отец женился, точнее – привел незнакомую мне рослую бабу с широким рязанским лицом и оставил ее в доме, даже не потрудившись сказать мне, как я должен ее называть. Называл я ее просто по имени: Поля. Через год Поля родила отцу сына, стопроцентно нормального мальчика, и отец мой расцвел в новом приступе беззаветной любви. Он почти перестал пить, стал опрятным и даже веселым, на свое новое детище он смотреть не мог без блаженной улыбки, поднимал его на руки так бережно, словно это была хрупкая драгоценность, ползал с ним по полу, играя, бормотал ему бессмысленные слова: "Мой Мормышкин, мой бурундучок ясненький, мой-мой-мой". На меня отец смотрел при этом с виноватой ужимкой, будто бы желая сказать: "Что поделаешь, это малыш". Сколько помню, он со мною так не играл, он как будто брезговал мною, даже когда я был его единственным сыном от любимой жены. А я – у него на глазах я медленно, но неуклонно превращался в урода. Братца звали Аркадий, отец питал склонность к благородным именам. Но мое звучало как издевательство, и посторонние люди, произнося его, испытывали неловкость.
Период моей борьбы с собою продолжался четыре года, пока не пришло окончательное знание, что это уже навсегда. Что там Кафка, немудрящая сказочка о человеке, в одночасье очнувшемся насекомым. Что такое один день ужасного пробуждения в сравнении с четырьмя годами моих мук? Мне потом приходилось дублировать фильмы ужасов, где вервольф превращается в зверя, однажды это длилось двадцать минут экранного времени, сделано все было подробно и очень правдоподобно, с хрустом костей, с обрастанием шерстью, с дикими воплями, переходящими в вой, а главное – с жуткой деформацией лица. Я смотрел и молчал, сидя в наушниках и скорбно улыбаясь: действительность тысячекратно страшнее этих сказочных страданий. То же происходило и со мной, но только не в одну полнолунную ночь, а на протяжении долгих, пустынных, холодных и лунных, нет – зеркальных ночей после маминой смерти, когда одно лишь зеркало могло меня обнадежить или повергнуть в звериную тоску. Это был год ужаса, год желтого петуха. Жизненный тонус мой и сопротивляемость так резко понизились, что за один этот год я переболел тремя инфекционными болезнями: дифтеритом, скарлатиной и дизентерией (впрочем, последнюю я подцепил уже в больнице, куда меня привезли с пищевым отравлением). Должен сказать, что я радовался, когда меня увозили в больницу: там мне было спокойно, я даже чувствовал себя равным с другими ребятишками, сестры и нянечки были со мною добры. Правда, и дома меня никто не обижал: отец проходил сквозь меня, не видя, а мачеха относилась ко мне с состраданием (в котором я, кстати, ничуть не нуждался), и передачи мне в больницу носила она, от отца я их не принимал.