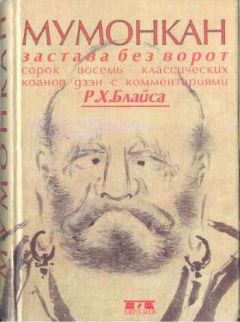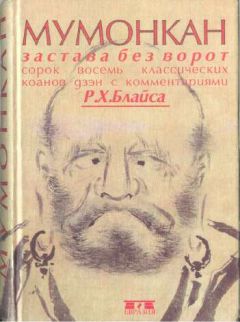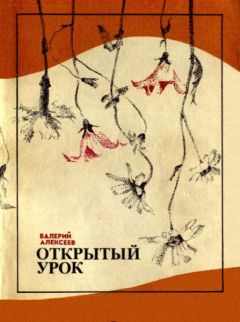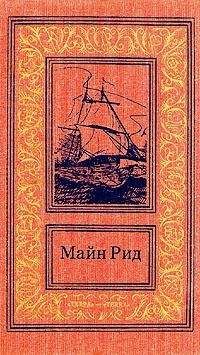Валерий Алексеев - Стеклянный крест

Обзор книги Валерий Алексеев - Стеклянный крест
Валерий Алексеевич Алексеев
Стеклянный крест
На башне спорили химеры:
Которая из них урод?
О. Мандельштам1.
Я очнулся во тьме и несколько раз повторил про себя это странное слово: "Тьма". Что за тьма… Откуда такая тьма? Безгласное и беспросветное, оно более, чем "темнота", соответствовало окружавшему меня мраку. Впрочем, "мрак" в данном случае не годился: мрак угрюм, он просвечивает изнутри краснотою, а моя кромешная тьма была просто черной, даже не угольной, без единого отблеска, она не тяготила меня и не пробуждала в душе ни малейшей эмоции, за исключением разве что удивления, причины которого я не мог уловить. Глаза мои были раскрыты – правда, я судил об этом умозрительно, не ощущая ни дрожания век, ни прикосновения частиц воздуха к роговице. Тела своего я тоже не чувствовал, оно как будто не имело пределов и простиралось, подобно пустыне, во все стороны тьмы. Рассыпанный на тысячи черных сухих песчинок, я лишен был мышечной воли, и сознание, что рано или поздно придется пошевелиться, вызывало во мне лишь вялую тошноту и то легкое удивление, о котором было сказано выше: я отлично понимал, что ни вялости, ни удивления (да и самого понимания тоже) не должно быть по той простой причине, что меня больше нет. Здравый смысл подсказывал, что мне следует ущипнуть себя или просто ощупать, но мне мерзко было даже думать об этом: такое отношение к собственной телесной оболочке определяется термином "дисморфофобия", боязнь – не боязнь, но уж, во всяком случае, отвращение, для которого, в отличие от большинства моих товарищей по этой изысканной хвори, я имею более чем достаточные основания.
В первые минуты я еще мог предполагать, что работа моей мысли носит остаточный характер: мало ли какие процессы происходят в клетчатке, все это химия, в конце концов. Но рассудок мой не гас, а, напротив, яснел, и по зрелом размышлении я был вынужден признать: то, что я пришел в себя, – это факт, который сомнению не подлежит. Не скажу, что этот вывод сильно меня огорчил: отчего не зайти по дороге в свой покинутый, обесточенный, обреченный на снос старый дом? Постоять среди запятнанных стен, вспомнить горькие подробности проведенной в этих пределах жизни – и со спокойной душою уйти, теперь уже навсегда, вновь захлопнуть за собою глухую дверь, обитую драным стеганым дерматином: делать здесь больше нечего, жить здесь дальше нельзя.
Переборов отвращение, я поднял невидимую во тьме руку (она мне показалась большой и в то же время почти невесомой, как распахнутое воронье крыло), провел по щеке пальцами – и содрогнулся: щека была шершавая, сыпучая, как будто и в самом деле покрытая коркой слежавшегося песка. Спокойно, парень, не дергайся, развязно сказал я себе, ты просто небрит. Такое объяснение успокоило меня и позабавило, сухие губы мои раздвинулись в улыбке, и я ощутил на них свежий привкус антибиотика. Реанимационное отделение, добросовестные люди в голубых халатах, и откуда они только взялись в ноябрьской России 1991 года, где само слово "добросовестность" вызывает лишь желание цыкнуть зубом? Так или иначе, они славно потрудились, возвращая к жизни еще одного едока.
– Есть тут кто-нибудь живой? – спросил я с натужной бодростью, чтобы только услышать себя, и удостоверился, что со слухом у меня все в порядке, хотя голос мне не понравился, он был сиплый и тоже какой-то песчаный. – Живой кто-нибудь есть?
На случай, если отзовутся, я имел оправдание: в горле пересохло, пусть дадут попить – вот и весь разговор. Но ответом мне была мертвая тишина. Впрочем, "мертвая" – не совсем точное слово: затаившись, я услышал, как в отдалении тепло и ласково подкапывает вода. "Плётцлихь, плётцлихь", – по-немецки четко и в то же время мягко выговаривали капли, каждая с некоторой задержкой, заставляющей ждать и считать. В голове у меня плыло, я никак не мог осмыслить, что находится внутри и что снаружи меня. Надеясь зацепиться слухом за внешний ориентир, я попытался определить, с какой стороны каплет, но звук доносился одновременно со всех сторон. Чем старательнее я прислушивался, тем полновеснее и сочнее становилось размеренное пленьканье, с падением очередной капли вся окружавшая меня темень вздрагивала, и я тоже вздрагивал вместе с нею, как если бы был в ней растворен. Всего лишь минуту назад я лежал, не обремененный никакими желаниями, теперь же меня беспокоила жажда, я согласен был снова вытерпеть часть своих смертных мучений в обмен на стакан питьевой воды. Краем глаза я видел этот стакан, тонкостенный, светящийся, с бумажной наклейкой, на которой фиолетовыми чернилами было криво написано: "Сей жидкий минерал". Стоило лишь протянуть руку – но на это движение я никак решиться не мог. Чтобы отвлечься от мыслей о воде, я попробовал сосредоточиться на том, откуда мне явилось слово "плётцлихь" – и как можно быть уверенным, что оно означает "вдруг". Наше "вдруг" – деревянное, с торчащим гвоздем, это – тускло блестящее, кольчатое, как поднявшая головку змея. Оказалось, однако, что память моя переполнена разноязычными словами – и в отместку за насилие над собою начала их сотнями извергать. Они роились у меня перед глазами, беспорядочно совокупляясь при полнейшем пренебрежении к смыслу, языковой принадлежности и категории рода, это было похоже на подсвеченную колонию сумасшедшего вируса под микроскопом: безобразные сцепления слов порождали новых вербальных уродцев, те вели себя еще наглее, пожирая друг друга и обрастая чешуей префиксов и дикой шерстью флексий. Размножение шло так бурно, что я испугался: если это будет продолжаться, прозрачно-серые частицы бессвязной речи заполнят все пространство перед моим мысленным взором – и наступит безумие. Напрягшись, я разогнал словесный террариум и заставил себя думать о чем попало, но только связными, по возможности длинными периодами. Я принудил себя услышать и обговорить в уме мягкий шорох страниц потрепанной книжки, которую читает дежурная медсестра, сидящая за столиком в конце больничного коридора, там у нее горит зеленая настольная лампа, на плечи сестры наброшен толстый серый шерстяной платок, одной рукой она теребит и накручивает себе на палец свисающую с виска прядку желтоватых волос, время от времени она, забывшись, запускает свободную руку себе под халатик и почесывает бедро, я отчетливо слышу, как цепляется за обломанный ноготь нитка ее теплых рейтуз, но тут, спохватившись, сестра оглядывается и, выпростав руку, переворачивает страницу. Я даже вспомнил, что медсестру зовут Катя, еще бы не вспомнить, как звали первую в моей жизни женщину.
Текстовое упражнение помогло: мой вокабуларий угомонился, звук капели стал тише, краем сознания я держал его под контролем и не позволял приближаться и заполнять мою сумеречную голову целиком. Сделав свое благотворное дело, медсестра Катя перестала быть нужной, и я не без сожаления погасил ее вместе с ее зеленой лампой: не время было углубляться в интимные воспоминания, пока не выяснилось, что со мной стало – и где я, собственно, нахожусь.
В самом деле, почему кругом так темно? Абсолютной тьмы не бывает, и за время, прошедшее с моего очновения, глаза мои должны были отыскать хоть незначительный свет.
– И сказал Он: Да будет свет! – проговорил я, не то что насмешничая, но инстинктивно прощупывая еще один неприемлемый для меня вариант.
Признаюсь, я ждал небесного грома, немедленной кары за свои кощунственные слова и на всякий случай, как нашкодивший ребенок, прикрыл рукою немигающие глаза. Но ничего ужасного не случилось, по-прежнему я пребывал во тьме, о внешнем пространстве напоминал лишь пронзительный сквознячок, тянувший откуда-то сзади. Ноябрь на дворе, вспомнил я, обещали резкое похолодание. Наверное, там, позади, окно. Помедлив, я отвел от глаз свою невидимую ладонь – и точно, за спиной моей холодно и трезво синело, и пространство перед моими глазами стало принимать организованные формы- именно те, которых я от него ожидал. Вот проступили углы, точнее – линии, где сходились по-разному подсиненные стены, заголубел потолок, и обозначилось место, отведенное мною для двери, она сперва не просматривалась, потом нехотя засветилась темно-желтым, фанерованная, глухая, совсем не больничная дверь. За дверью, конечно же, прихожая моей двухкомнатной квартиры, а дальше, за встроенным шкафом, – кухня, там и течет из крана, который Анюта, по своему обыкновению, забыла завернуть до конца.
"Анюта" – это имя, я знал, мне нельзя было сейчас вспоминать, сердце замерло (ах, оказывается, у нас еще есть и сердце), и, проклиная себя за неосторожность, я увидел склонившееся надо мною любимое, проклятое лицо с детским ртом и синими глазами, в которых попеременно мерцали радость страх. Я корчился, захлебываясь в отвратительной пене, мне было больно и гадко, а Анюта стояла на коленях рядом со мной, прижав кулачки к груди, и лепетала: "Ну, что ж такое, как долго! Ничего, ничего, скоро уже, Евгений Андреевич, миленький, потерпите!" Она полагала, что я рычу от приступов боли, я же силился сказать ей, что мне стыдно – и чтобы она ушла. Глаза ее были полны слез, тонкие губы искривлены в страдальческой и одновременно брезгливой гримаске. Я не хотел видеть, как ей противно, не хотел, не хотел. Я отогнал от себя жуткое видение, я заставил себя сосредоточиться на самом имени, на простом созвучии "А-ню-та", я обратил его в белесо-голубое пятнышко и пустил плясать рядом другое, рыжевато-коричневое, по имени Катя. Так они и трепыхались передо мною, два придорожных мотылька, а я уводил себя все дальше и дальше от страшного, любимого, преступно глядевшего мне в спину лица. В сущности, говорил я с собой, мне никогда не нравилось имя "Анюта", примитивное, опереточное, ложное, фальшиво-простецкое, не деревенское даже, но пригородное, так точнее. Белые флоксы, беленые стволы яблонь, смутно кривящиеся в темноте. Анютины глазки. Хлопающие глазки провинциальной инженю: "Ах, я такая безотказная!" Цукатные Петя и Аня: "Как прекрасно вы говорили вчера, как благородно и вместе как верно!" В Германии этот цветок называют "мачехины глазки": яркий, лживый, тревожный и одновременно пугающий взгляд. Полувопрос, сам себе противоречащий, двойное разноцветное "не": "Ты не смеешь меня не любить, не смеешь!" Есть сказка о мачехе, которая прикинулась матерью – правда, не совсем убедительно: сквозь материнское светлое тело проглядывала ее чернота. Я не читал этой сказки, и мне ее не читали, я сам себе ее показывал, мой жестяной фильмоскоп бренчал и вонял перегретой краской. Я вспомнил этот горестный запах заброшенности, хлопья пыли в углу между дверью и шкафом, белую наволочку, криво приколотую вместо экрана к стене. Никому до меня нет дела, сижу скорчившись на полу возле шкафа, смотрю светящуюся картинку (с близкой наводки она получается маленькая, но яркая и от плотности света кажется объемной, висящей в воздухе, как вещь) и прикидываюсь, что не слышу страшного перешептывания взрослых у себя за спиной и не догадываюсь, что мама моя умирает. Между тем мне отлично известно, что мама вот-вот умрет, знаю даже почему: потому что сквозь ее прозрачное тело просвечивает грозная тень мачехи. Отчего-то мне втемяшилось, что выказывать это знание – стыдно, и я так усердствую в своем притворстве, что даже проборматываю себе под нос какие-то слова, якобы комментируя содержание диафильма. Можно было бы сказать, что я просто убеждаю себя, что ничего ужасного не происходит, инстинктивно отгоняю от мамы беду, – но это не так, я именно лицедействую, сам не понимая зачем, и терзаюсь одним лишь соображением: нормальные мамы нормальных детей живут себе и живут, а моя умирает. И при этом я знаю, что сама эта мысль – постыдна, что о ней не должен знать больше никто, и готовлю себя к той минуте, когда это случится и когда мне будет нужно быстро и незаметно послюнить палец и провести по щекам две бороздки – как будто от слез. Вдруг мой острый затылок немеет, по нему пробегают мурашки, я чувствую на себе взгляд отца и поворачиваю к нему умильную мордочку, как бы спрашивая: "Папа, что? Папочка, ты меня звал?" Нет, он не звал меня, и глаза его, желто-карие, по-обезьяньи, бессмысленно-мудрые, выражают недоумение: "А это что еще за урод?" Я не нужен ему, я мешаю ему ждать маминой смерти, я здесь лишний и никому больше не нужен. Теперь-то, задним умом, по прошествии лет, я понимаю, что отец не помнил себя от горя, ни на что другое у него не оставалось сил, но ведь я тоже горевал и имел право на сострадание, душонка моя цепенела при мысли, как я буду жить без мамы, кто станет ласково будить меня по утрам и с тихой песенкой натягивать на меня драные колготки. Замирая от нежности, я попытался представить себе ее беленькое, не знавшее загара лицо, голубые с розоватыми, как бы слегка воспаленными веками, виноватые и в то же время укоризненные глаза, попытался снова, как в раннем детстве, ощутить милый запах ее темно-рыжих фламандских волос. Негустые и тонкие, прямые и шелковистые, пряди этих волос были моей любимой вечерней игрушкой: лежа рядом с мамой в ее постели, я разбрасывал их по своему лицу и в упоении пел: "Елочный дождик, елочный дождик!" – а мама смеялась тихим стрекозиным смехом, тревожно между тем прислушиваясь к шагам отца, она не любила, не хотела его – и защищалась моим присутствием, я об этом знал, и мама догадывалась, что я знаю, это был наш с нею маленький заговор. По ее настоянию спали мы втроем в одной комнате, ночами я слушал умоляющий мамин лепет: "Ну, не надо, не надо, пожалуйста, ну прошу тебя, Женя услышит..“. – и тоскливо недоумевал: что он к ней лезет? неужели не ясно, что ей это не нравится? а может быть, он нарочно ее мучает? но тогда за что? не за то ли, что я у нее родился не такой? А как славно, как спокойно и просто было лежать рядом с нею, чувствуя нездоровый жар ее худеньких плеч, особенно горячих оттого, что они были лунно белы и чисты, без единой родинки, без единой отметинки, без единого темного пятнышка, даже кончики грудей ее были едва обозначены бледно-палевыми кружочками обманчиво безжизненной кожи. Волна дикого, звериного, совсем не сыновнего счастья окатила меня, поволокла за собой, и я даже заплакал от бессилия: это Анюта ко мне подкралась, обхватила за шею, прижала лицо мое к своей нежной груди – и с затаенной радостью шепчет: "Скоро, миленький, скоро, надо еще потерпеть!"