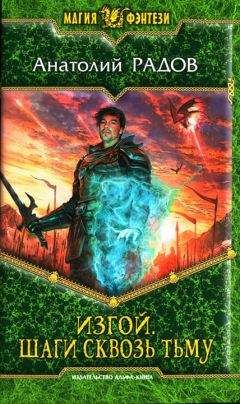Юрий Пахомов - Столкновение
Двери в квартирах офицерских домов никогда не запирались. От кого? Маша гнула свою линию: у нас появилось пианино. На нем жена обучала детей музыке. Как только энергии на все хватало? С моря придешь, сидят чистенькие, ухоженные мальчики и девочки, разбирают нотную азбуку. Под бренчание пианино я дрых без просыпу, все лучше, чем тревожный межвахтенный сон на лодке под стук дизелей. Штурмана и командиры отсыпаются только на пенсии. В часы застолья пианино превращалось в бар, и на крышке деликатного инструмента вырастала пирамида бутылок. Принцип: подходи и сам наливай, как в лучших домах Лондона.
6
Сидение на продуваемом холодном балконе, как известно, ни к чему хорошему не приводит. Особенно в моем возрасте и в отсутствие жены. Проснулся от жутковатого ощущения: не могу оторвать голову от подушки и встать. Первая мысль — кондрат стукнул, потом все же отлепился от дивана и, подбадривая себя матерком, поплелся на кухню поставить на плиту чайник.
Шея не действовала, ее вроде как перекосило, для того, чтобы повернуться и посмотреть в окно, пришлось вращать все тулово. Поясницу тоже ломило. В народе подобное увечье называют, кажется, прострелом. Во всяком случае, без родной поликлиники не обойтись. Что же, можно порадоваться, я при деле, нашел себе занятие.
Утро выкрасило Москву в серый петербургский цвет — серые дома, серые деревья на фоне серого неба, даже вороны устойчивого серого цвета. «Жигуленок» мой еще подремывал на стоянке. Среди монстров–вседорожников он походил на подростка, прибившегося к компании взрослых хулиганов. Пришлось его разбудить, после того, как я основательно прогрел мотор, он солидно, даже с некоторой долей самодовольства, зафурыкал. Ездить по Москве стало невозможно, а если ты еще и не можешь вертеть головой, то и опасно. Но на метро мне не добраться. Два раза попадал в пробку на Беговой: где–то впереди случилось ДТП, вереница машин замерла и, похоже, надолго. С неба летело черт–те что, не то дождь, не то снег, не то перхоть. Я поступил в точном соответствии с английской инструкцией для женщин–военнослужащих: «Если вас насилуют и вы лишены возможности сопротивляться, расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие». Я включил приемник, расслабился, но удовольствия не получил. На волне радио «Шансон» кто–то пел гнусным голосом:
С Одесского кичмана
Сорвались три уркана…
Пришлось переключиться на «Маяк», передавали новости, а новости меня редко радуют: без конца падают самолеты, вздуваются реки, в Сахаре наводнение, в Берлине адова жара, а политики ведут себя так, словно объелись белены, хлебая из одного котелка. В поликлинике — я не был там лет пять — новшество: заставляют натягивать на обувь пластиковые хрустящие бахилы, вроде презервативов для моржей средней величины. Взял медицинскую книжку, талончик к невропатологу и прошелестел к лифту. У дверей кабинета ученого эскулапа в скорбных позах сидели отставники из нашего отдела боевой подготовки подводных лодок. Почти в полном составе во главе с бывшим начальником вице–адмиралом Виктором Касьяновичем Коркиным. Мы не виделись давно, и все значительно изменились. Коркин, в прошлом бодрячок, крикун, живчик, стал походить на высушенного кузнечика. Пошевелил усиками, сказал:
— Глядите, Старчак. Григорий Алексеевич, ты вроде бы как еще подрос. Питаешься, видать, хорошо. Этими добавками, что ли?
— Просто я стал значительнее.
— Ясненько. Никак тебя тоже радикулит расшиб?
— Вроде того.
— Ну и дела! Разом весь отдел раскорячило.
Капитан первого ранга Юра Силов солидно пояснил:
— Радик теперь заразный, вроде летучего триппера. Я в «Московском комсомольце» читал.
Бывший командир атомного ракетоносца капитан первого ранга Коля Галкин грустно вздохнул:
— Это ты верно, в наши годы триппер разве что воздушно–капельным путем и заполучишь. Слышали, какую свистопляску вокруг «Юрия Долгорукого» устроили? Подводный ракетный крейсер, супер, новые технологии, ноу- хау, а его, мать иху, заложили в девяносто шестом году, он на стапелях уже устарел. Это как? Гонят туфту для непосвященных. Гидроакустические станции на крейсере, как были глухими, так и остались. Ни одного порядочного полигона для замера шумности атомоходов нет. Наше слежение за америкосами длится пять–восемь минут, а они нас пасут до пятидесяти суток, впритык ходят и наглеют с каждым днем. Выйдет такой крейсер в море, изготовится стрелять, а американская субмарина у него на хвосте, выжидает. Только откинут наши ребята крышки контейнеров, а супостат уже на кнопку жмет.
— Дробь! — скомандовал Коркин. — На ветеранские темы не переходить, тоска зеленая. Жив и радуйся. Нас все равно уже никто не слушает.
За дверью послышался короткий, сдавленный вопль. Компания переглянулась.
— Кто это там? — насторожился Силов.
— Саша Бояринов, из надводников. К этим костоломам только попади. Мужики, новые анекдоты есть?
— Какие анекдоты, Виктор Касьянович? Сейчас сама жизнь — анекдот.
— Опять — двадцать пять. Галкин, неужели даже ты анекдотов не знаешь?
— Знаю.
— Так не тяни.
— А чего Саша Бояринов так орет? Он же не у хирурга.
— Не отвлекайся.
— Знаете, как нынче флоты расшифровываются? Северный флот — современный флот, Тихоокеанский флот — тоже флот, Балтийский флот — бывший флот, а Черноморский — чи флот, чи не флот.
— Развеселил, твою мать. И это смешно?
В дверной проем протиснулся Бояринов, точнее, его бледная тень. В руке костылик, в глазах испуг. Мы учились на одном факультете, Саша был чемпионом Ленинградского гарнизона по вольной борьбе, входил в сборную училища. Ныне Бояринов не смог бы победить даже первоклассника, а уж одолеть себя, сохранить лицо — и подавно. Саша переложил палку из одной руки в другую и, страдальчески морщась, спросил:
— У кого транспорт есть? В метро не доеду. Сделали блокаду, но все равно болит.
Я откликнулся на просьбу:
— Довезу, Сашок, если доктора меня с тобой не уравняют.
— Добро.
Пока мы утешали Бояринова, в коридоре появилась сестра Ангелина Павловна — я знал ее лет тридцать и помнил еще нескладной девушкой. Сейчас–то она раздалась вширь, округлела лицом и страдала одышкой. Сестра вела под руку здоровенного, с бритым черепом бугая в дорогом клетчатом пиджаке, тот ступал тяжело, упористо, словно хотел проломить пол остроносыми башмаками.
Ангелина Павловна коротко кивнула нам и, распахнув дверь, слегка подтолкнула туда бугая. Дверь плавно закрылась, и мы изумленно переглянулись.
— Может, действующий адмирал? — сделал предположение Галкин.
Виктор Касьянович пошевелил усиками–сяжками и покачал головой. — Не знаю такого адмирала. С этакой рожей только в тылу служить, а там, кажется, только одна адмиральская должность осталась. Скорее, блатной, родственничек чей- то, мать иху так. Ветераны стоят в очереди, а это мурло.
Сомнения разрешила Ангелина Павловна. Доставив высокородного пациента, она вышла.
— Ангелина, золотце, что это за туз?
— А я знаю, Виктор Касьянович? Он деньги за прием заплатил, таких велено без очереди пускать.
— Новости! А мы что же, бомжи какие? Куски пришли сшибать?
— Вы — бесплатно. Да поймите же, без приработка со стороны поликлиника не выдюжит. Лекарств и так нет.
— Нормально, мужики! Мы теперь на содержании у разной шелупони. У этого болящего рожу за три дня не обсе. Прости, Ангелина, вырвалось. Ладно, перетерпим. Голод перетерпели, а уж изобилие переживем. Галкин, выходи на сцену, а то мне хочется кому–нибудь в морду дать. Давай из старых анекдотов, про подводников.
Мы прослушали несколько серий. Галкин знал несметное количество анекдотов. Мордоворот выполз наконец из кабинета, двигался он едва ли не на четвереньках. Коркин его даже пожалел:
— Видать, обделался с перепугу, видите, как ступает. Да и разит от него. Господи, теперь моя очередь. Начну орать, выручайте, братцы.
Доктор — миловидная женщина с усталыми глазами — прописала мне финалгон и велела ходить на физиопроцедуры.
— А выпить можно?
— Нужно. Причем только водку. Морякам помогает от всех нервных болезней.
— Спасибо, доктор, вы меня спасли.
Я отвез Сашу Бояринова домой, сдал на руки жене, заскочил за водкой, мои запасы иссякли, и на другой день уже вертел шеей, как какаду, на триста шестьдесят градусов.
* * *С тестем и тещей мне повезло. Круглый сирота, выкормыш закрытых военно–морских заведений, я обрел семью, по гроб жизни буду обязан я Алексею Николаевичу и Елизавете Павловне, пусть земля им будет пухом. Сейчас, когда их давно уже нет, я с обостренной зоркос- тью вспоминаю фрагменты нашего совместного бытия, и картины эти ярки, насыщены красками, звуками и даже запахами.