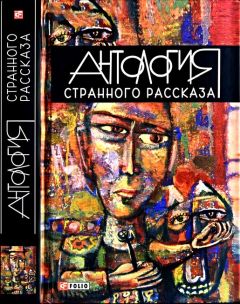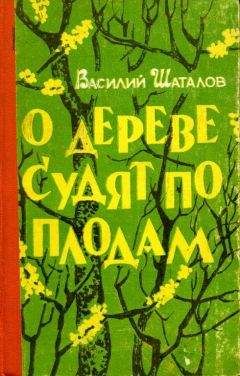Лижия Теллес - Рука на плече
Никогда, никогда не терял я этой надежды. Мы уже почти старики, но зато ты посмотри, как он еще бодр, и не собирается умирать, и не нужен ему никакой чай из ипе́, он слышал когда-нибудь об ипе́, Марина? — спрашиваю я и вижу, что иголка как будто смеется надо мной, следуя своей извилистой дорожкой туда, где я ее уже не вижу. О боже, Марина, ну почему мы говорим обо всей этой ерунде, которая начинается так невинно, а потом сползает неизвестно куда? Ты начинаешь. Я вынужден отвечать в том же тоне. Представь себе, что я хочу все забыть. А ты мне не даешь. Почему ты не даешь мне все забыть? Чего ты добиваешься? Она сложила коврик. Убрала нитки. Может быть, из-за дыма (она курила сигарету), но мне показалось, что у нее на глазах заблестели слезы. Я думаю, ты не любил никогда и никого, кроме себя, сказала она, прижав к глазам ладони. Я любил тебя, хотел я сказать и не решился. Она знает, что, если бы она была просто одной из многих искательниц приключений, встреченных мной в Париже, вряд ли я повел бы ее в посольство, чтобы оформить брак. Она одевалась тогда как бедная студенточка, потому что быть бедной было интересно, но я-то знал, что у папаши куча текстильных фабрик, о его скупости я узнал много позже. Я любил Розу, мог бы я сказать. Но Марина отлично понимает, что, если бы Роза сделала бизнес на своих рецептах, если бы она была из тех женщин, которых обычно ведут под руку, слегка впереди, как трофей, я не уехал бы в Париж один. Значит, я никогда и никого не любил, кроме себя? Ну а если я и себя не люблю? Знаешь ли ты, что я бегу от самого себя, а? Знаешь или нет?
Я промокаю халатом грудь — по ней ручьем течет пот. Банщик подает знак, и я встаю на весы — взвешиваться так взвешиваться. Я узнаю, что три килограмма у меня лишних, часть из них сеньор ликвидирует в ближайшие полчаса, на что я отвечаю, что уже начал их ликвидировать, потому что здесь жарко, как в сауне. Он записывает в карточку мой вес. Весы, которые Роза купила, чтобы контролировать вес, ни черта не контролировали, как можно было ей запретить запираться в ванной и грызть свои шоколадки и бисквиты? Роза! — звал я, а она запускала душ или кран, но продолжала сидеть и жевать. Лучше сразу поставить все точки над «и»: мы уже давным-давно не жили, эта ее беременность вышла по пьянке, чистое безумие. Она была уже немыслимо толста, когда это случилось совершенно неожиданно. И так не вовремя, что я не выдержал и сказал: ситуация не самая идеальная, Роза, я не переношу этого слова «идеальный», но это было единственное, что мне пришло в голову. Тогда она надела свое черное пальто и вышла из дома, она всегда надевала это пальто, которое я видеть не мог, — думала, что оно скрывает ее полноту. Ни черта оно не скрывало, о господи, Марина, неужели я еще должен продолжать? Это было в день моего вернисажа. Роза приготовила мне ланч, поев, я сидел, потягивая виски, — было еще рано. За стеной Роза сколачивала рамки, она любила работать по вечерам, под музыку, жуя свои бисквиты. Когда я допил последний глоток и крикнул, что я пошел, она вдруг появилась передо мной в этом своем дурацком пальто. И с черной сумкой: я иду с тобой. У меня язык прилип к нёбу. Уже многие месяцы мы никуда не выходили вместе, у меня были свои дела, свои друзья, никто никогда не интересовался Розой, она была, само собой, исключена из этого круга. И ее это не трогало, она продолжала толстеть и понимала, что трудно найти платье, которое ей было бы к лицу. Она вообще была в одежде неразборчива, я даже подозревал, что это специально, чтобы выглядеть некрасивой. Она знала, что у тебя есть любовница? — спросила Марина. Я пристально посмотрел на нее: а кто сказал, что у меня была любовница? Она не отвела взгляда. И вдруг взорвалась: так была у тебя любовница или нет? И она не подозревала об этом? Да, подозревала, отозвался я наконец и начал ждать детальных расспросов. Но их не последовало. Так вот, она стояла передо мной в черном пальто и с черной сумкой. Готовая идти. Идиотская мысль пришла мне в тот момент в голову: как будет лучше — расстегнуть пальто или застегнуть? Я почувствовал себя виноватым: зачем я позволил ей так растолстеть? И этот жуткий балахон. Я обнял ее. Завтра же надо будет дать ей денег на новое пальто, я снова хочу видеть тебя элегантной, Роза, выкинем к дьяволу это тряпье, эту сумку, а? Она сжимала ручку сумки, как когда-то (когда это было?) сжимала апельсин. Я взглянул на портрет, потом на нее — отовсюду смотрел на меня прозрачный светло-зеленый взгляд. Роза, дорогая моя, сказал я, это так хорошо, что ты хочешь идти со мной, ведь всем, что я имею, я обязан тебе, ты помнишь об этом? Я не хочу больше видеть Розу-Затворницу, все хотят с тобой познакомиться, а потом мы отметим это — закатим ужин на всю ночь, даже если не удастся продать ни одной картины. Загуляем! Но ты совсем закоченела, сперва надо согреться, глотни немного виски. Я открыл банку с орешками, она любила их, еще рано, лучше прийти, когда все уже соберутся. Ну что ты так сжалась, сними пальто, иди сюда. Мы сели прямо на ковер, выпили виски из одного стакана, и когда она засмеялась, я поцеловал ее. Язык ощутил вкус ванили, ты ела пудинг, признайся! Она отрицательно замотала головой и засмеялась, уже давно я не видел ее смеющейся, я был счастлив, Роза-Хохотушка, совсем как раньше. Я снял с нее туфли. Когда я расстегнул блузку, сосок на одной груди сжался и закрылся, как листок мимозы от ночной прохлады, она была необыкновенно восприимчива! Мимоза моего детства. Я поцеловал второй сосок, и он тоже закрылся, Роза-Соня! Ее глаза потемнели.
Она отдалась без сопротивления. Никогда еще не проникал я в нее так глубоко, никогда наслаждение не было таким полным, острым до боли. Как будто знал (Марина слушала, побледнев), что это в последний раз, Я накрыл ее пальто и оставил спящей. Или притворившейся спящей. Я выбежал на улицу. Я мог бы еще успеть, если бы поймал такси. Я шел, очумевший от звезд, от луны, горящей в темной глубине, и думал о матери, о ее платье цвета ночи. Ты меня видишь, ма? — закричал я и вдруг понял, что после смерти она слилась с тем звездным шаром, что держит в руках младенец Иисус, и теперь ей не надо бояться, что шар упадет, потому что теперь она стала его частью; ты здесь, ма? — крикнул я и почувствовал, как стучит в висках моя темная, как эта ночь, кровь. Свободен. Когда я пришел, я был пьян, но мозги работали четко. Выставка бурлила, уже в дверях мне в лицо ударило ее горячее дыхание. Я вошел, и в моих глазах полыхал зеленый огонь, слава, она зеленого цвета, Марина. Зеленого.
— Если сеньору что-нибудь понадобится, вот здесь звонок, — сказал банщик и открыл стеклянную матовую дверь.
Я задохнулся от пара и зажмурил глаза — на них сразу же выступили слезы, на лицо будто положили влажную подушку.
— Слишком сильно для сеньора?
Подушка начала постепенно пропадать, рассеиваться. Выступил пот. Я вдохнул запах эвкалипта, который горячими волнами шел от пола, от потолка. Открыл глаза и попытался восстановить дыхание, сбитое кашлем.
— Подождите немного… Я буду входить постепенно. Теперь хорошо, да, вот так хорошо.
Сквозь густой туман я различаю деревянные скамьи, светлыми пятнами расположившиеся амфитеатром по кругу. В первом ряду, совершенно голый, сидит тот человечек, что продефилировал мимо меня в раздевалке, блестящий от пота и поникший. Он рассматривает свой спускающийся складками живот, последняя складка почти лежит на коленях. Я стараюсь сесть подальше, чтобы толстяк не завел беседу. Но ему, кажется, тоже не до разговоров — вся энергия здесь уходит в пот. Мы сидим неподвижно, разделенные как острова, как несообщающиеся сосуды, пот бежит ручьями, образует лужицы на скамейках на полу. Нет, почему ты так сказала, Марина? Что я никого никогда не любил. И тебя тоже? Даже вначале? Это желание, эта жажда почувствовать тяжесть твоего тела и дать тебе ощутить тяжесть моего. Эти гордость, волна удовлетворения, которые заполняли меня, когда я входил с тобой в любую гостиную, не из-за красоты, нет, ты не была красива. Но элегантность. Порода. Я вводил тебя под руку — она моя. Моя. Ты страдала от моих увлечений, тот случай с Карлой, мы ведь чуть не разошлись тогда, ты хочешь сказать, что и Карлу я не любил? И Розу тоже? На мне ее кровь, а ты говоришь, что я не любил ее.
— Я бы сейчас литра три воды выпил. Запросто. Литр за литром, — бормочет толстяк, подняв голову и глядя в потолок. У него глаза рыбы, тоскующей о море.
По его гладким ногам стекает вода, как горячий воск по свече, пропитывает полы халата и исчезает в трещинах пола. Неправда, что я стыдился ее, так тонко чувствующей, такой восприимчивой. Такой душевно богатой по сравнению со всем этим блестящим бабьем, которое меня окружало, пытался я объяснить Марине, нет, я не стыдился повести ее на выставку. Или все же стыдился? Мне нравилось видеть ее дома: узел волос на затылке, фартук для опытов. Роза — Частная Собственность. Мне всегда казалось, что я пытался сделать ее не такой неловкой, не такой провинциальной. Сейчас я думаю: а действительно ли так уж пытался? Или меня вполне устраивало это ее домоседство, особенно когда она начала толстеть? Не знаю, почему она так растолстела, я предупреждал. Шоколад, бисквиты, она жевала их целыми днями. Я могу показаться расчетливым. Но человек не бывает только расчетливым. Только корыстным. Я распахиваю халат. Капли пота сливаются в ручейки на моей груди и стекают вниз, прокладывают дорожки между волосками на животе. Так ты, Марина, говоришь, я не любил? Откуда ты знаешь? Просто, я думаю, дело в том, что я никогда не отдавался этому целиком, всегда оставалась какая-то часть меня, большая или меньшая, которая наблюдала за другой со стороны. Вот что касается всех этих разговоров насчет любви к ближнему как к самому себе, тут я точно никого не любил. Чушь это все собачья, фантазия. Я всегда получал больше, чем давал, честно признаю. Я провожу языком по губам: эвкалипт и соль. Я любил свою работу, я работал с настоящей любовью, помнишь? Если бы у нас были дети, Марина! Но у тебя не могло быть детей, надеюсь, что хоть в этом-то ты не станешь меня обвинять. Итак, мы одни. Без желания. Без огня, то есть это у меня нет огня, ты-то полна горения со своими «сестрами», со своей газетой. Эмансипация. Освобождение. Кончится тем, что ты освободишься и от меня. Знаешь, я мечтал, как мы вместе состаримся, кончилась страсть, прошли измены, осталась только эта спокойная нежность. Без обид. Без боли. Рядом дети. Я всегда считал скотством, когда взрослые дети, переженившись, показывают вам спину и начинают подыскивать (о, весьма тактично) приют для престарелых, где вы могли бы мирно завершить свою старость. Стервецы. Так я когда-то поступил с немым дядей. Сейчас мне их не хватает, этих детей, которых у нас нет. Я мог бы иметь их от Розы. Но тогда эта мысль повергла меня в ужас, скорее, Роза, срочно аборт, срочно! Ты угадала, Марина, она сопротивлялась, она хотела иметь нашего ребенка. Потом та же история с Карлой: ты с ума сошла, Карла! Мать-одиночка, ты этого хочешь? Она хотела именно этого. Но, Карла, я не собираюсь разводиться с Мариной, конечно, если ты думаешь таким образом взять меня за горло… Она попросила виски, мы сидели в баре. Да нет, успокойся, ответила она. Этого мне не надо. Но, пожалуй, мне уже не нужен и ребенок, который однажды посмотрит на меня, как смотришь сейчас ты… Карла. Она была смелой женщиной. Ей надо было бы участвовать в этом вашем движении. Я промокаю грудь — по ней струится пот горячими, щекочущими струйками. Опускаю руки, и новые капли образуются на месте прежних. Сбрасываю халат. Обжигающий пар обрушивается на меня из всех четырех углов сауны, как из четырех пастей дракона. В сказках моей матери всегда был дракон. В конце злые люди бывали наказаны, и наказание огнем было обязательно. Я закрываю глаза и вижу мою мать в платье темно-синего цвета. А мою мать? Мою мать я тоже не любил? Слезы льются у меня по щекам, мешаются с потом, текут в рот, я плачу, как не плакал никогда, и хочу плакать еще, хочу изойти потом, чтобы все оставить в этой проклятой сауне, ну, а мою мать, Марина?..