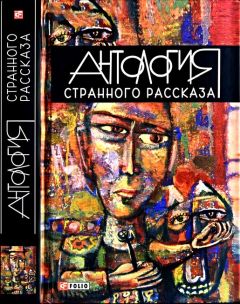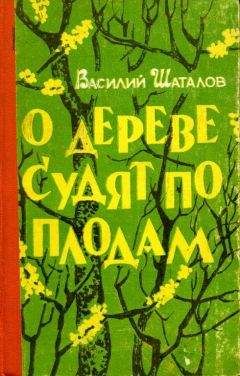Лижия Теллес - Рука на плече
Я завязываю пояс халата. Теплая, пушистая ткань хранит в складках аромат эвкалипта. Сверкающее, прозрачное стекло бутылок. Прозрачный ликер. Ее радость, когда она рассказывала мне о своем открытии, — зеленый ликер с легким привкусом мяты, она принесла мне рюмку, попробуй! Легкий запах возбуждал еще до того, как тепло, разлившись во рту, заполняло грудь, опускалось до самого низа, но это же напиток любви, сказал я. С этим рецептом мы разбогатеем, ликер для монахов! Она засмеялась, и я увидел, как заиграл в ее глазах зеленый огонь ликера.
— Я много слышал о сеньоре, но никогда не видел его картин, только так, в журналах. У сеньора будет выставка?
Я следую за белым фартуком. Хотя ступни у него и огромные, ступает он мягко.
— Только в Вашингтоне.
Она не разбогатела ни с этим рецептом, ни с каким другим, ни малейшей практической хватки, вокруг нее люди делали деньги, добивались известности. Она нет. В конце концов она даже уступила рецепт одеколона одной итальянке, которая дала ему новое название («Петрониус», кажется?) и пустила в широкую продажу. Почему, Роза? Почему ты сделала это? — спрашивал я, едва сдерживаясь, чтобы не тряхнуть ее как следует, эту Розу-Толстуху, она уже почти стала ею. Она приклеивала к невзрачным флакончикам маленькие ярлычки с прежним названием, написанным зелеными буквами: «Розана». В память о матери, которая преподавала ботанику и познакомилась со своим будущим мужем в Институте исследования растений, редкое семейство — все натуралисты. Я рассказывал Марине (чего я ей только не рассказывал!), что мать Розы пережила свою смерть, потому что Роза поила ее чаем из листьев ипе́; когда смерть пришла за ней, то по дороге ей попался немой дядя, который охранял дерево ипе́, и дерево защитило больную. Так что, похоже, немой дядя перекинулся со смертью парой слов, та повернула на сто восемьдесят градусов и вернулась лишь десять лет спустя. Разговорчивый немой, заметил я, но Марина не улыбнулась, она была слишком погружена в вышивание своего коврика, она тогда увлекалась этими безделицами, что занимают руки и оставляют свободными мозги. Я вижу, что иголка не точно следует рисунку: то отступит назад и мелькает среда орнамента, то снова появится среди цветков сирени, на самом краю полотна, интересно, это из-за цвета? Теперь она хочет знать в подробностях, что произошло в ту ночь, когда я пришел с поручением от моего друга, а на столе для него был приготовлен ужин. И она ждала. Ты пришел, и что дальше? А дальше я остался, как я мог не остаться? На улице лил дождь, возвращаться было далеко, я был весь мокрый, хоть выжимай. Она не могла отпустить меня в промокшей одежде, дала что-то из дядиных вещей, пока сушила утюгом мои брюки. Дождь не прекращался, у меня поднялась температура, кончилось тем, что я заснул на подушках, которые она набросала посреди гостиной. Перед сном она заставила меня выпить горячий чай из листьев апельсина. Моему другу пришлось задержаться в Ресифе, у него там были младшие братья, надо было разобраться с имуществом, привести в порядок дела. Таким образом, я начал ходить к ней каждый день. И она никогда не заговаривала о женитьбе? — спросила Марина исключительно по привычке — она отлично знает, что я даже и не думал жениться. Но ты же женился на мне, возразила она, и на ее лице появилось хорошо знакомое мне выражение. Не дожидаясь ответа, она снова втыкает иголку, но и я не медлю: ну, с тобой было все по-другому, дорогая. Единственная дочь богатого папаши, скряги правда, который шагу лишнего даром не сделает, это, между прочим, интересная подробность, ну и прибавь сюда надежды на наследство. Марина улыбнулась, разглаживая на коленях коврик.
Никогда, никогда не терял я этой надежды. Мы уже почти старики, но зато ты посмотри, как он еще бодр, и не собирается умирать, и не нужен ему никакой чай из ипе́, он слышал когда-нибудь об ипе́, Марина? — спрашиваю я и вижу, что иголка как будто смеется надо мной, следуя своей извилистой дорожкой туда, где я ее уже не вижу. О боже, Марина, ну почему мы говорим обо всей этой ерунде, которая начинается так невинно, а потом сползает неизвестно куда? Ты начинаешь. Я вынужден отвечать в том же тоне. Представь себе, что я хочу все забыть. А ты мне не даешь. Почему ты не даешь мне все забыть? Чего ты добиваешься? Она сложила коврик. Убрала нитки. Может быть, из-за дыма (она курила сигарету), но мне показалось, что у нее на глазах заблестели слезы. Я думаю, ты не любил никогда и никого, кроме себя, сказала она, прижав к глазам ладони. Я любил тебя, хотел я сказать и не решился. Она знает, что, если бы она была просто одной из многих искательниц приключений, встреченных мной в Париже, вряд ли я повел бы ее в посольство, чтобы оформить брак. Она одевалась тогда как бедная студенточка, потому что быть бедной было интересно, но я-то знал, что у папаши куча текстильных фабрик, о его скупости я узнал много позже. Я любил Розу, мог бы я сказать. Но Марина отлично понимает, что, если бы Роза сделала бизнес на своих рецептах, если бы она была из тех женщин, которых обычно ведут под руку, слегка впереди, как трофей, я не уехал бы в Париж один. Значит, я никогда и никого не любил, кроме себя? Ну а если я и себя не люблю? Знаешь ли ты, что я бегу от самого себя, а? Знаешь или нет?
Я промокаю халатом грудь — по ней ручьем течет пот. Банщик подает знак, и я встаю на весы — взвешиваться так взвешиваться. Я узнаю, что три килограмма у меня лишних, часть из них сеньор ликвидирует в ближайшие полчаса, на что я отвечаю, что уже начал их ликвидировать, потому что здесь жарко, как в сауне. Он записывает в карточку мой вес. Весы, которые Роза купила, чтобы контролировать вес, ни черта не контролировали, как можно было ей запретить запираться в ванной и грызть свои шоколадки и бисквиты? Роза! — звал я, а она запускала душ или кран, но продолжала сидеть и жевать. Лучше сразу поставить все точки над «и»: мы уже давным-давно не жили, эта ее беременность вышла по пьянке, чистое безумие. Она была уже немыслимо толста, когда это случилось совершенно неожиданно. И так не вовремя, что я не выдержал и сказал: ситуация не самая идеальная, Роза, я не переношу этого слова «идеальный», но это было единственное, что мне пришло в голову. Тогда она надела свое черное пальто и вышла из дома, она всегда надевала это пальто, которое я видеть не мог, — думала, что оно скрывает ее полноту. Ни черта оно не скрывало, о господи, Марина, неужели я еще должен продолжать? Это было в день моего вернисажа. Роза приготовила мне ланч, поев, я сидел, потягивая виски, — было еще рано. За стеной Роза сколачивала рамки, она любила работать по вечерам, под музыку, жуя свои бисквиты. Когда я допил последний глоток и крикнул, что я пошел, она вдруг появилась передо мной в этом своем дурацком пальто. И с черной сумкой: я иду с тобой. У меня язык прилип к нёбу. Уже многие месяцы мы никуда не выходили вместе, у меня были свои дела, свои друзья, никто никогда не интересовался Розой, она была, само собой, исключена из этого круга. И ее это не трогало, она продолжала толстеть и понимала, что трудно найти платье, которое ей было бы к лицу. Она вообще была в одежде неразборчива, я даже подозревал, что это специально, чтобы выглядеть некрасивой. Она знала, что у тебя есть любовница? — спросила Марина. Я пристально посмотрел на нее: а кто сказал, что у меня была любовница? Она не отвела взгляда. И вдруг взорвалась: так была у тебя любовница или нет? И она не подозревала об этом? Да, подозревала, отозвался я наконец и начал ждать детальных расспросов. Но их не последовало. Так вот, она стояла передо мной в черном пальто и с черной сумкой. Готовая идти. Идиотская мысль пришла мне в тот момент в голову: как будет лучше — расстегнуть пальто или застегнуть? Я почувствовал себя виноватым: зачем я позволил ей так растолстеть? И этот жуткий балахон. Я обнял ее. Завтра же надо будет дать ей денег на новое пальто, я снова хочу видеть тебя элегантной, Роза, выкинем к дьяволу это тряпье, эту сумку, а? Она сжимала ручку сумки, как когда-то (когда это было?) сжимала апельсин. Я взглянул на портрет, потом на нее — отовсюду смотрел на меня прозрачный светло-зеленый взгляд. Роза, дорогая моя, сказал я, это так хорошо, что ты хочешь идти со мной, ведь всем, что я имею, я обязан тебе, ты помнишь об этом? Я не хочу больше видеть Розу-Затворницу, все хотят с тобой познакомиться, а потом мы отметим это — закатим ужин на всю ночь, даже если не удастся продать ни одной картины. Загуляем! Но ты совсем закоченела, сперва надо согреться, глотни немного виски. Я открыл банку с орешками, она любила их, еще рано, лучше прийти, когда все уже соберутся. Ну что ты так сжалась, сними пальто, иди сюда. Мы сели прямо на ковер, выпили виски из одного стакана, и когда она засмеялась, я поцеловал ее. Язык ощутил вкус ванили, ты ела пудинг, признайся! Она отрицательно замотала головой и засмеялась, уже давно я не видел ее смеющейся, я был счастлив, Роза-Хохотушка, совсем как раньше. Я снял с нее туфли. Когда я расстегнул блузку, сосок на одной груди сжался и закрылся, как листок мимозы от ночной прохлады, она была необыкновенно восприимчива! Мимоза моего детства. Я поцеловал второй сосок, и он тоже закрылся, Роза-Соня! Ее глаза потемнели.