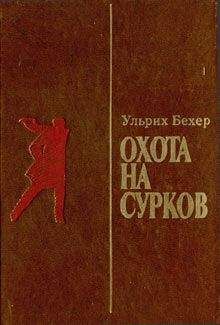Павел Кочурин - Изжитие демиургынизма
Андрей Семенович так и просидел в мастерской за разглядыванием набросков к портрету механизатора. Тарапуни… "Уродца времени", воќрвалось мысль вроде как что-то иронично-ласкательное. С холста, стоявшего на мольберте, глядело и на самого художни-ка, и на Тарапу-ню Данилово поле с крестом на облачке и силуэтом человеческой фигуры, как бы парившем над полем. Воображение отчетливо вырисовывало образ богоугодного старца-отшельника татарова времени. В белом одеќянии, с распростертыми руками, воспарявшем над нивой предтечей блаќгого. Художник подсел к картине и несколькими мазками утвердил на полотне этот образ, отошел от картины. Но стоило взглянуть на зариќсовки механизатора Тарапуни, как тут же юлой выскочил из толпы жи-вых парней, окруживших художника на есиповском веселье, Сергуха Необремененный. "Вот взгляни и на меня. Я такой же, как и все, только покаянней". И тут же явственно всплыл перед взором рисунок из школь-ной газеты его — Андрюшки Поляка: дремлет в борозде непутевый мужичонко по кличке Илюха Глодный. Кляча его, опустив голову, "газеты читает". Сашка Жох с кулаками лезет — батьку его Поляк с Корнем обиќдели… Из Илюх голодных необремененность и изошла, жохи ее и утверќдили ликвидируя, как класс, амбарных мужиков.
В мысленном видении все и слилось в единый лик необремененного, вроде как безродного Сергухи Юлы. Вышел он из Илюхи Глодного, ставшего опорой Авдюхи Клю-чева, активиста коллективизации. Сашка Жох — это уже плод самого Авдюхи. И восторжествовал безамбарный класс — объединившийся деревенский пролетарий, которому нечего терять. И в полќный уже рост над всеми ими стоял демиургын Горяшин. И Тарапуня под властью их, будоражившийся, словно камушек брошенный в стоячую гладь пруда. "Трагедийноюморосотворительный тип" — придумалось словцо… Но тогда — из кого возрасти новому землепашцу?.. Дмитрий Данилович — крестьянин старой закваски. Веха в надтреснутой крестьянской жизни. Они с Тарапуней по-разному корят "раб-отника", но взыв один: "Узри лютый порок свой и блуд олукавленный человек. Исцелись, поняв, что ты фибра живой вселенной"… Эти слова, где-то прочитанные или услышанные, отозвались в душе художника молитвой ко Христу, и он произнес их как бы за самих пахарей завтрашнего времени. И этот молитвеќнный взыв получил отклик в душе и высказался в словах: "В Тарапуню, в таких как он вольется закваска Дмитрия Даниловича". Эта закваска истового мужика-крестьянина избродит и тленную необремененность. И она поглотится амбаром трудового пахаря-избранника. И он узрит свой путь, дарованный ему изначала.
ГДАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Остаток дня прошел в раздумьях. Андрей Семенович не выходил из маќстерской, но кисти так и не коснулся. Мысли сводились к внутреннему спору с собой. Безамбарная необремененность, взявшая верх над дереќвенским людом, и весь остальной мир в тленье ввергает. Где, кроме как на земле, человеку в себе удержаться, остеречься от этой необре-мененности. По городам она уже давно властно бродит пролетариатом. И его вот, самого художника, раздумьями о том обременяет. Отсюда и смирение с бесправием и насилием, жестокостью и принуждением к неќправде. Будто в прозрачный поток реки вливается муть. И некто уже не видит в потоке живительной струи. Будто ее и не было никогда. Все благое черниться свыканием с замутняющей разум безликостью. Мы сами, по воле своей, и окунаемся в нее.
Раздумья прервал голос из проулка. Дмитрий Данилович звал к чаю. Обрадован-ный, что его окликнули, Андрей Семенович высунулся в окошќко мастерской. Отозвался: "Жду, иду…" Будто это была его обязанќность.
Утром к Кориным наехала скопом городская родня. Дочери с мужьями, племянни-ки. Приезд был уже отмечен, все были навеселе. За чаем и продолжился деревенско-городской необремененный разговор.
После мысленного собеседования художника со своими портретными героями, разговор с коринскими гостями казался отвлеченным от забот сущной жизни. Верные-то суждения о самом бытии копятся в таких вот деревеньках, как Мохово: Богом зримых, но людом забытых. Они помалу, но непрестанно, колеблют почву под ногами такого вот "благоустойного класса" как демиургынизм. С языка горожан, "стержневой основы" это-го класса, ж слетали высказы с усмешечкой "над кем-то", а вернее над самим собой, та-кими же, как и эти "кто-то"… Да и откуда взяться творящему слову, если уставная жизнь остановила русское веселие, в коем душа прозревает. Вот и пересуждаются разные вытре-бейки — причуды и затеи демиургызма.
На этот раз усмешки шли над новоявленным писателем, чьи творения прорабаты-вались на всех уровнях. И на таком вот ихнем — деревенско-городском. И с такой вот с затаенной похвальной издевкой. А как же иначе-то: писатель-то лауреат всех степеней, но при этом очень ск-ромный — не член Союза писателей. Эти пересуды сдабривались анекќдотиками о главном докладчике, который, прочитав нужную речь, тут же повторяет ее по второму экземпляру, подложенному, может, тамошним шутником. Сойдя с трибуны взмокшим, пеняет капризно, что больно длиќнно ему написали… Или вот приподносится такая загадка-отгадка: "Ни царь, ни Бог и ни Герой?.." Кто такой среди высших демиургынов?.. До Бога — где уж тут, коли потом, а что до фамилии — то царская. И прет во владыки, очередишку уже застукал в герои… Художника, да и моховских Кориных, это мало забавляло. Стрелы-то в темќный лес метались, и лишь отмершие листья с вершинок дерев сбивали. Это и гости понимали, но чем-то надо было тешиться. Вглубь-то копать и воля не вызрела, и вроде не позволительно раздумывать о том, что "там" решается. И другое — в себя-то где смелость заглянуть обеззабоченному люду. И художнику подумалось: "Царь-то коронованный с семейством убиенны, а что поджидает нынешних самоназначенных владык, над которыми их сатрапы изгаляются. Да и титул вот не лестный, вроде клички сатаны — демиургыны".
К чаю накрыли на веранде. Выставили городские яства, "достатые" в самой Моск-ве доброхотами. На это тоже привычные усмешки: "И в Мохове жуют то, чем столичные "маги" кормятся. Наглядная смычќка города с деревней…" Жизнь, как зеркало, хочешь не хочешь, а лицо твое и выкажет.
Вокруг стола расселась детвора. Настя, внучка, выкатила в кресле- коляске бабуш-ку Анну. Стол утверждал красной меди прадедовский самоќ вар с множеством медалей на боках. Шум из него — гул из глуби родиќ мой земли матушки. Светлана увидела этот само-вар на подволоке дома Кориных. Попросила Ивана обновить его. И вот он, яро блестя, торжествует на столе. И дивит… Какой без самовара в мужицком доме чай! С ним — слов-но в дубраве сидишь и голос вершин дерев ее слушаешь. И само собой спрашивается: по-чему вот люди, далекие от деревенского быта, наткнувшись на предметы крестьянского обиходя, покоряются беќзыскусной их красотой? В них отклик свободной души человека на зов самой природы… Такие мысли за вроде бы зряшными разговорами и роиќлись в го-лове художника. Вместе с гордостью за пытливость своего люда, вызывалась и горечь. Старина наша русская ценится больше не самими нами. У нас, нынешних, она уворовыва-ется как у расхристанных растяп. И наше приходит к нам гостьей с чужой баской-наклейкой. И мы его хвалим как заморское чудо-невидаль, ахаем в восторге.
Коринский самовар привлекал художника своей простотой. Купивший его дедуш-ка или прадедушка, не позарился на вычуры. Выбрал такой, чтобы вид его никогда не надоедал, как не надоедают в бору стволы золотистые прямых сосен.
Андрей Семенович взял из рук Тамары, старшей дочери Дмитрия Даниќловича, чашку чаю, отпил глоток, раскрыл блокнот и стал в нем "чириќКать", как он сам любил выражаться, глядя на самовар. Он впервые поќявился на столе, и на него тут же пал глаз художника. Думы досадные отошли. Глаз узрил красоту "отжившего", по их вот, город-ских гостей понятиям, мира. Но без него, этого "отжившего", как вот почтить чудо гря-дущего дня.
Анна Савельевна сидела в своем кресле посреди гостей. Лицо ее выражало сми-ренную, свыкшуюся со страданием печаль. Оглядев стол, родню свою за ним, глянув на художника с блокнотом и карандашом в руках, сказала, преодолевая свое смущение при-родное:
— И меня бы уж коли нарисовал, Семеныч. За столом, пока вот вмесќте все… И я вот… — Обмерла, недосказав то, что таилось в душе. И как бы поправилась: — Уедут вот, я и посмотрю на себя со внуками. Фотографии то есть, но глазом-то увиденное живее карто-чек. — Смолкла неловко, что решилась на такую просьбу. Будто торопилась вдаль по неот-ложному делу и боялась что-то забыть.
До этого она суеверно опасалась глаза художника. Свой портрет, наќписанный Андреем Семеновичем еще при дедушке Даниле, держала в сунќдуке, вместе со своим девическим приданым.
Андрей Семенович окинул взглядом Анну Савельевну, как бы тайно вгляделся в ее лицо. Она в ответ кивнула головой: "Такая вот…" Художќник понимал страждущую ее тоску, в коей была просьба не отдалять ее от живого мира. Передвинул стул, повернул листок в блокноте. За разговорами как бы и позабылось, что он рисует.