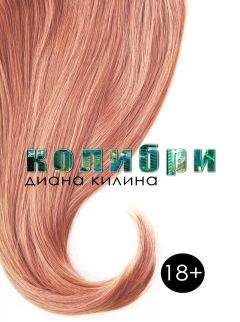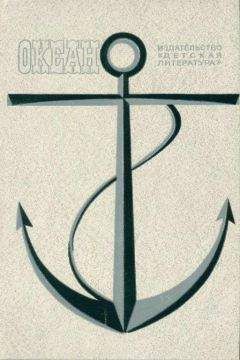Марина Палей - Long distance, или Славянский акцент
Прошу?.. Вас?.. Может, это немножко невежливо... Это немножко смешно... Но если бы у меня был выбор... Я имею в виду... если бы у вас был выбор, сэр... Я бы хотела тогда попросить вас вместо той услуги... вместо услуги, касающейся работы... Я бы предпочла другую услугу... Муж вашей племянницы... Тот, что в Иерусалиме... он влиятельный человек?.. хоть немножко? Чисто случайно: не работает ли он в военном учреждении? Может, он мог бы объяснить... Если б они только знали... Если бы мой сын знал, что он мой единственный ребенок... Единственное существо, которое у меня есть... Если б он сознавал... Простите... Простите... Но иначе... для чего же тогда... все это было... что я делала...
Сцена 16
Номер шхинозийца. Полуодетый, полусонный и полностью обозленный, он сидит за компьютером, пытаясь то ли любить, то ли убить, то ли облапошить кого-то заэкранного в виртуальной реальности. Слышно изнурительное пиликанье компьютерной игры: тбири, тбири, тбата, тбата, тбута, тбута, тититба-а-а...
Нечто похожее слышишь при отправке факса или когда, прибегнув к услугам альтернативных компаний, звонишь на дальнее расстояние... Звукосигналы дурной математической бесконечности... Квадратный ритм, слепой, сводящий с ума, неизменный... Тири, тири, тата, тата, тута, тута, титита-а-а...
Это главный звуковой фон. А за ним, разорванный паузами, раненный, бредящий, глуховатый, звучит и звучит из-за двери голос женщины с телефоном.
Свет экрана, падая на желтое лицо шхинозийца, дает устойчиво мертвый колор, типичный для киборгов в их люминесцентно-фосфоресцирующей ноосфере... “Хага! Мал-сумалгун йомаш рош!..” Вот дьявол! Ни игра не клеится, ни спать не дают... Резко вскочив, шхинозиец оказывается у двери. Чуть привстав на цыпочки, он всматривается в дверной глазок. В какой-то момент возникает пауза: то ли женщину перебили, то ли она положила трубку... Шхинозиец делает уже было шаг к своему компьютеру, когда ясно вдруг видит под дверью какую-то фотографию. Освещенная лампочкой коридора, она на две трети торчит из дверной щели. Он присаживается на корточки и с любопытством, но никак не касаясь, разглядывает картинку.
На фотографии женщина и мальчик. Не сознающая себя красота молодости, почти юности, — тем более совсем не знающая себя шелковистость круглой детской щеки, чуть тронутой диатезом... Густые, блестящим темным каштаном, волосы матери, — свежеподстриженная (видимо, к даче) челочка четырехлетнего мальчика. Блеск глаз ребенка и матери одинаково ярок и чист, дистанция еще невелика. Сын покровительственно держит руку на плече мамы-девочки...
Ничего особенного. Шхинозиец встает, еще раз смотрит в глазок, а затем медленно, очень медленно и осторожно — затасканные ботинки его расшнурованны, мы видим их крупным планом — носочком, в несколько приемов, выпихивает фотографию за пределы своей территории.
Зевая, снова подсаживается — видимо, чтобы закончить игру — к своему компьютеру. На фоне светящейся буквы “L” идут титры. Тири, тири, тата, тата, тута, тута, титита-а-а...
Фильм четвертый. Механический попугай
CAST:
Сема Гринблад, человек без грин-кард, вероятно, поэт.
Эликсандэр Нечипайло, он же Эликс (Санек).
Девушка в белом
Дама в красном
Дама в оранжевом
Дама в желтом
Дама в зеленом
Девушка в голубом завсегдатаи Дама в синем Русского клуба Дама в фиолетовом “RUSSKAYA GLUBINA”.Актер в хромовых сапогах
и с граненым стаканом
Русский человек
в русской косоворотке
Хор и солисты на сабантуйчике
Прочие завсегдатаи клуба.
Медсестра.
Ладонь и голос продавца.
Механический попугай.
Субъект и его люди.
Голоса с учебной кассеты.
Действие происходит в Нью-Йорке, ранней осенью в начале 90-х годов XX века — у врача, в клубе, в магазине, в квартирах, на улице, — точней говоря, в сознании Семы Гринблада.
Сцена 1. Кабинет для проверки зрения
Это довольно маленькое помещение, одну из стен которого полностью занимает зеркало. В нем отражается офтальмологическая таблица с жирной, черного цвета, латиницей. Остальные стены, а также кафельный пол, белы, как белый сон, когда кричишь, а голоса нет.
В центре кабинета стоит очень полная, очень черная негритянка в белых теннисках, белых носках, белоснежной футболке и таких же шортах. Поверх футболки и шорт надет белый служебный халат. Это медсестра.
На высоком стуле с механически поднятым сиденьем испуганно замерло странное на всякий немедицинский взгляд существо. Оно выглядит довольно инопланетным под тяжестью массивной металлической маски, плоские части которой на уровне переносицы образуют то ли очки, то ли прибор для астрономических наблюдений. Маска придает ее пользователю комический вид неуязвимости и ненасытимой сексуальной жестокости.
Комический, потому что он не выдерживает комбинации с упомянутым выражением испуганного тела, сводясь полностью на нет цыплячьей сутулостью, обгрызенными ногтями и сэконд-хэндовскими башмаками, пятками которых, не доставая ими до пола, существо неврастенически колотит по высокой выдвижной ножке. Существо зовут Сема Гринблад.
Медсестра освобождает пациента от маски, но сейчас мы видим только его затылок. Что же до лицевой части, то подбородок Семы фиксируется медсестрой в выемке некоего прибора, похожего одновременно на астролябию и видеокамеру с треножным штативом, — объектив прибора нацелен на отражение офтальмологической таблицы.
Медсестра. Сейчас, в этом приборе, я буду менять для вас линзы. О’кей? А вы будете говорить, как вам лучше. Начнем. (Нажимает кнопку.) Так лучше? (Выждав, нажимает другую.) Или так лучше?
Сема. Так лучше... Нет, так, как было... Нет! Кажется, так, как сейчас...
Медсестра. Еще раз. Лучше... так? Или... так, как было?
Сема. Не знаю... А как было?
Медсестра. Вот так...
Сема. А теперь?
Медсестра. Теперь так.
Сема. А было?.. Простите, я, наверное, идиот...
Медсестра (хладнокровно). Never mind.
Сема. А как было раньше? Я уже не помню... Можете мне показать еще раз?
Медсестра. Пожалуйста. Было так.
Сема. Ага. Хорошо. То есть плохо... А сейчас?
Meдсестра. Так.
Сема. Так?.. Не знаю... Затрудняюсь сказать...
Медсестра. В каком случае хуже?
Сема. В обоих случаях хуже... Простите, я, наверное, идиот...
После двух первых реплик мы больше произносящих не видим.
Слышны только их голоса.
Сцена 2. Русский клуб “RUSSKAYA GLUBINA”
Вечер того же дня.
Мы видим несколько открытых комнат, стилистически напоминающих гибрид райжилконторы с туристическим агентством. В нос резко шибает букет из квашеной капусты, блинов и подгорелой гречневой каши, а также дыма всевозможных табачных изделий в диапазоне от ностальгической “Примы” до элитных сигар. Сегодня здесь то, что иностранцы (полагающие, будто знают русский язык) неизменно называют “вечеринка”.
Сразу слева от входа располагается кабинка. На двери ее самодельный плакат: человечек, с кепкой в руке, мочится на броневике. Это одноместный ватерклозет, почти домашний, то есть не имеющий дифференциации по половому признаку. Оттуда, на ходу застегивая ширинку, то и дело выходят подгулявшие особи мужского пола, причем на определенном уровне загула грань между иммигрантами (завсегдатаями клуба) и “стопроцентными американцами” (приглашенными на “вечеринку”) уже стерта. Выходят и женщины, защелкивая сумочки, влажно играя зрачками, продолжая поправлять бижутерию и с тревогой таращась в облезлое зеркало. Поскольку дверь то и дело открывается, мы без труда зрим внутренний дизайн этого помещения, с коего и начнем наше знакомство с этим клубом, ведь даже Державин в Царском Селе начал с того же.
Собственно говоря, это антураж, на который мы неукоснительно обречены, коль скоро нужда загнала нас в отхожие места наших знакомых, которым выпала судьба родиться на территории лесов, полей и рек в период Белки, Стрелки, а также тотальной кукурузной кампании. Или, скажем, если мы наносим визит особо продвинутым, то есть “svoim v dosku”, славистам, в свою очередь, делающим беспечальную карьеру на языке и культуре наших знакомых, рожденных в упомянутом ареале. Во всех этих случаях унитаз просто немыслим без окружения портретами лысого человека (с прищуром и в кепочке) либо человека с усами, словно бы рекламирующего табачную трубку на рождественской распродаже, — и конечно же это кроткое, многотерпеливое сиденье стилистически нерасторжимо с изображениями бровастого дяди, глазные щели коего излучают духовный настрой зулуса в момент общения с каменным топором и первобытным кресалом. Сами собой разумеются бессчетные лозунги, инструкции, обязательства (характерные для эры Человека с Бровями), кои ни в филологическом отношении, ни с позиций отсутствия здравого смысла ничуть, кстати сказать, не уникальней (что и кажет нам, беспамятным, летящий вскачь видеоклип наших дней), — нет, не уникальней любой другой наскальной продукции любых прочих эпох. А потому, посещая такой прогрессивный ватерклозет, от черной ли скуки или от какой другой не поддающейся определению дисфункции, вызванной этим трафаретным, как сам трафарет, фрондерством (точнее, смесью ханжества с дурновкусьем), мы не только интенсивно облегчаем кишечник и мочевой пузырь, но вдобавок осуждены на сильнейший рвотный позыв. И вот, очистив бренное тело, ослабевшим языком мы констатируем: театрализованно-условный, лжеязыческий ритуал изживания истории посредством акта дефекации, мочеиспускания, а также рвоты совсем не работает и (даже в виде ходких форм на рынке литературы) остается банальным глумленьем мышей над издохшим котом. Ведь глупость любой популяции, как и ей обратное, исторической эволюции не имеет, так что вместо оклеивания неповинных стен образчиками собственного неразумия (коими, кстати, можно многократно оклеить по экватору все планеты нашей системы, и еще останется), — не лучше ли заменить ржавый бачок, подновить пол, побелить потолок, а стены облицевать кафелем цвета mauve — и в этом уединенном месте именно уединением насладиться, смакуя его как одно из самых благословенных чувств, ниспосланных прямоходящим.