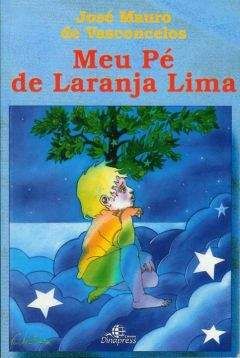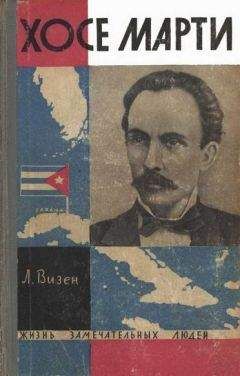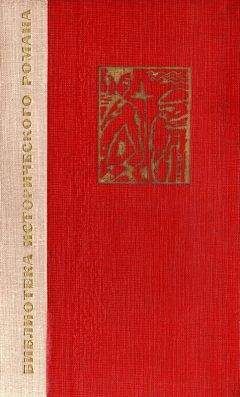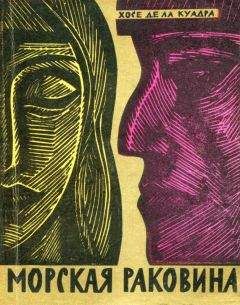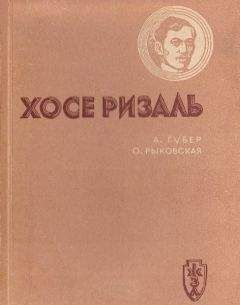Хосе Лима - Зачарованная величина
Чтобы испытать защитников города, Царственный затеял стычку. Он верил, будто каждая из атак, оставляя на разграбление новый квартал, отдает ему в руки новый клочок территории, но всякий раз был принужден отступать, подсчитывая потери. И этот клочок, уже причисленный на время атаки к его владениям, тем самым делался предвестием всего искомого целого, которое не замедлило бы сложиться, пустись он на штурм прочих кварталов. Ему удалось пробиться к началу торговых районов и, проходя по нищенским окрестностям местной тюрьмы, ненароком освободить Ван Луна. Можно себе представить бешенство Царственного, украшенного к тому же всеми ратными атрибутами, когда, ворвавшись в тюрьму, чтобы даровать свободу, он в ярости убедился, что бьется с солдатами, дабы самому не попасть в темницу. Ван Лун, напротив, источал ироническое простодушие. В этот миг передышки бойцы стали свидетелями чуда: из рукава у Ван Луна выросла трехметровая ветвь, выгнав красноватые побеги. Ван Лун метнул ветку в небо и пожал Царственному руку. Но войска Императора уверенно взяли верх, и претендент поспешил отступить, бросая завоеванный квартал и увозя за собой Ван Луна в северные провинции.
В лагере Царственного к магу относились с предупредительным почтением. В нем видели существо особой породы и не донимали его мощь излишними испытаниями. Когда крестьянин приводил к нему крепкого, по всем правилам подкованного жеребенка, чародей подымал его в воздух, нимало не тревожась, что в этом неустойчивом положении любая мелочь может разрушить связь между конем, подковами и той вкрадчивостью, с какою он пощипывал мышцы пациента, дабы зрителям бросились в глаза и эта сталь, и эти гвозди. Потом Ван Лун удалялся, а жеребенок уже стоял на четырех ногах, и крестьянину тоже оставалось лишь удалиться. Так он отвоевывал своим даром возможность выжить и, держась в стороне, не растрачивать себя попусту каждый день. Он ускользал в прозрачное посредничество стекла, плавал пылинкой в луче, издали наблюдая горячий трепет всего живого и спасаясь дистанцией от растительной жвачки слишком близкого дыхания. Все вокруг было для него совершенно прозрачно, и он наслаждался безграничным кругозором, похожим на те полотна примитивов, где греховные соблазны в обличье скорпионов тянутся ослепить юношу, который силится устоять на краю бездны, видя в глубине картины веселую стряпуху, а та, в свою очередь, смотрит из окна на открывшееся зрелище, издавая нервный смешок и снова высовывая голову, чтобы продлить удовольствие от разглядывания до полного изнеможенья, которое, впрочем, отодвигается все дальше и дальше.
Претендент собрал войска и вновь бросил их на приступ. Поскольку подготовка к защите затянулась, атака была неожиданной. Огрехи предыдущего боя уже стерлись из памяти, и принятая на сей раз стратегия мало-помалу вылилась в своеобразную проверку органных труб. Вот маленькой клавише, взмолившейся «органной бурей» (tempête), отзывалось гудение кроны; вот клавише «флейта» откликалась немота, убеждая, что трубы опустели. Точно так же Царственный кидался на облюбованный квартал, но оборона была закупорена в опорных точках настолько плотно, что атака тут же откатывалась. По случаю в квартале находилась тюрьма, и дрожащей от страха Со Лин удалось снова вернуть себе свободу. Претендент мельком оглядел ее, и не успела затворница сделать нескольких шагов, как была рывком переброшена через седло, приторочена и увезена в лагерь, откуда недавно бежала.
Царственный выточил свою месть из мрамора. Он хотел, чтобы чародей и Со Лин встретились внезапно по ходу действия, заранее подготовленного как блистательный маскарад их казни. После отдыха, рукоплесканий, гитар, забав с клинками и арканами воцарилась тишина — наступила очередь чародея. Из-за кулис с двух сторон помоста появились Ван Лун и Императрица, приветствуя друг друга, но смеясь и любезничая с отточенным холодком. Как будто не было ничего — ни бегства, ни ужаса перед безлюдной степью вокруг, ни памяти, ни пыла, ни саней, ни стужи на ветру и жара под одеялами. Оба попятились и уселись каждый в свое кресло, Со Лин — чуть ближе к Царственному. Молчание толпы висело, разряжаясь гудящей мухой. Претендент ударил в гонг. От реки, обвивающей лагерь, отогнали коней, чтобы не слышать их бесцеремонного топота.
Царственный подал нервный знак Он решил начать праздник снятием головы. Ван поднялся, Со Лин послушно направилась к столу и подставила шею под нож Зрители совершенно ясно видели, как голова обрела на миг полную независимость, но уже через секунду Со Лин поклонилась публике и вернулась в кресло рядом с Царственным. Некоторые зеваки, хвастаясь посвященностью в тайну, высказывали было надежду, что претендент дал Вану секретное распоряжение или тот изобразит обморок, предоставив ножу сделать свое дело. Но чародей предпочел чистое искусство, безупречное мастерство, вторгаясь в события и даже отделяя их друг от друга, но ни единым пальцем не затрагивая великого акта потаенной и неприступной последовательности вещей. Его жестами правила учтивость, а ее питало равное внимание ко всему, берущее начало в timor Dei[6].
При дворе аплодисменты были ласкающим бархатом смерти. Они означали конец. Следом могло идти лишь гробовое молчание. В лагере Царственного аплодисменты, вскипая мерными волнами, служили вступлением к неистовству. Начав со столь отвратительного для него номера, чародей мог теперь соединить хитрости, отточенные за время пребывания в тюрьме, с прежним классическим мастерством, и пальцы его замелькали между порохом и незримым оркестром. Он плыл по волнам, хмелел от себя самого, и распяленный на клинках сторожевых костров лагерь казался огромной гулкой шкурой, натянутой кожей, вмещающей тьмы и тьмы. Тем часом стоявшие в задних рядах, покачиваясь на цыпочках, слышали смутный шум, как будто к лагерю приближался отряд всадников. Но они ограничились тем, что покрутили головами и первыми отправились спать.
Ночью Ван Лун вышел из шатра. Холодная тишина, подчеркнутая скрипом хлебнувшего росы сверчка, с каждым вопросительным шагом смыкалась все глуше. Вдруг он заметил Со Лин, которая тоже покинула шатер и делала знаки, призывая прекратить разведку. Что случилось? Император с бесчисленным войском вновь пустился по следу Царственного. Осторожно предупредив часовых о лавине близящегося врага, претендент поднял лагерь. Пользуясь безмолвным уединением, которое оцепило Ван Луна и Со Лин, напоминая чародею о его ночном триумфе, войско двинулось к северу. Претендент полагал, что, бросив нашу чету, он умерит гнев Императора. Еще одна ошибка: завидев остатки покинутого лагеря, Император испугался возможной ловушки и кинулся по следам с удесятеренной яростью. Так он снова гнал самозванца вплоть до краев, где обитали разбойники Севера. Но остановился, решив, что разумней иметь еще одного разбойника у себя во владениях, чем еще одного казненного претендента на счету. Когда сырость, доспехи и вымокший филин замкнули круг, он приказал возвращаться.
Ван Лун был в шатре Со Лин, они лежали на шкурах. Ван ласкал ее с неподобающей поспешностью, и движения его становились все отточенней, приближаясь к горлу Императрицы. Со Лин рассыпалась тем же смешком, с каким, отсеченная от зрителей внезапной темнотой, смотрела на близящийся клинок. А пальцы чародея вело растущее любопытство, и он сжимал и сжимал их, пока Со Лин, продолжая смеяться, не почувствовала, что вступает в прежнюю игру зеркал и «предстает с изнанки», как будто разделенная лезвием и вынужденная на секунду задержать выдох.
Потом Ван Лун с тем же любопытством, которое уже начинало леденить кровь, остановил мерный трепет собственного дыханья так, что, нацело отрешась от себя, сделался наконец незримым и вступил в сияющий лабиринт. Трупы мага и Со Лин лучились, как будто веяние жизни не отлетело от них, и над умершей парой, меняя чекан, проплывали столетье за столетьем. На лице одного проступала бесконечная спираль любопытства, у другой — улыбка окончательной гармонии, классической ясности. Застыв, чекан каждого проглянул тем резче.
На обратном пути войска Императора наткнулись в брошенном лагере на опрокинутый помост. Скомандовав всем отдыхать, монарх отправился туда, где уже не было ни единого зрителя. Он вошел в шатер и, увидев трупы, внезапно впал в некое песенное умопомрачение. Воздев руки и не меняясь в лице, Император переходил от детских попевок к военным гимнам. Потом он покинул шатер, с той же торжественной и легкой песней на устах двинулся к колодцу, опасному перекрестку всякого лагеря, и бросился в его жерло. Он все глубже уходил в темноту, удерживая голос на одной ноте — враждебные человеку божества пользуются ею, чтобы отделить мысль от звука, а тем самым и от любого темного воплощения.
Царственный, возвращаясь, шел по пятам верной армии Императора и умножал свои ряды. Потом он потерял след войска, что наталкивало на мысль, будто его приготовились встречать, и отнюдь не дворцовым приемом. Когда его и императорские части сошлись, он почувствовал, как по рядам прокатилась исполинская волна ожидания. Армия Императора осталась на месте, полки Царственного шагнули вперед, и вот оба воинства слились в одно. Каменная застылость не дрогнувших ни на волос императорских частей позволила наступавшим секунду передохнуть; за это время ряды претендента приумножились, пополнясь новыми полками, штандартами и доспехами. Царственный миновал помост, подступил к шатру, равнодушно оглядел оба трупа и их непостижимые позы. Затем он прошел дальше и остановился у реки, естественной границы лагеря. Там он увидел, как фламинго теребит клювом тело, обернутое в шелка, испещренные знаками, несомненно, уникального достоинства. Воздетые руки застыли, полуоткрытый рот одеревенел в форме песни. Видимо, достигнув колодезного дна, погибший был вынесен подземными водами в реку, а уж там птицы и насекомые принялись за его неторопливое изничтожение. Царственный с безупречным изяществом рванул труп Императора и показал его войскам. Потом чародея, Со Лин и Императора сложили в одну повозку, и полки ускоренным маршем двинулись к столице Империи.