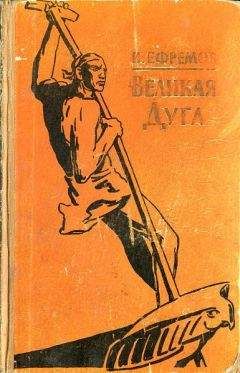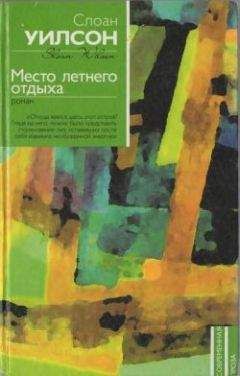Эмине Эздамар - Мост через бухту Золотой Рог
Впрочем, малейший мой шорох становился для них поводом растянуть жвачку болтовни еще больше.
— Тряси, тряси, девочка, своими титьками. Жалко, ни один мужик этого не видит…
Эти бабы, пережевывавшие вместо жвачки мужиков, умолкали, только когда одна из них выпускала изо рта белесый резиновый пузырь и он лопался в воздухе со смачным звуком. Чпок!
Одна, она была хороша собой, рассказывала, как однажды на улице села в чужую машину, на заднее сиденье, за рулем был мужчина. Она знала английский, а мужчина сказал ей, что заплатит сто марок, если она проведет в его машине час. Она его по — английски спросила:
— Что я должна делать?
Он ей объяснил, а она ответила:
— I can not good English.[13]
Она рассказывала эту историю, то и дело пересыпая ее английскими фразами.
— Он говорит: «Сап you sit down one hour in my саг?», а я ему: «What must I do in this one hour?»[14]
Она цитировала этот диалог по-английски, а женщины, слушая ее, кивали, хотя по-английски не понимали ни слова. Они согласно кивали, и ни одной даже не пришло в голову по поводу этих ста марок позлословить. Поскольку эта красотка так шикарно говорила по-английски, никто не отваживался у нее спросить, с какой такой стати она вообще села в чужую машину. Девушке, которая говорит по-английски, всё можно. Женщины консультировались у нее, какие таблетки принимать от головной боли — аспирин, цитрамон или саридон. Она читала им пикантные советы из разных английских женских журналов: как соблазнить шефа; или: как внушить мужу, что вы целый день для него готовили. Например, так: вы целый день провели с подружками на улице или в кино, но незадолго до прихода мужа ставите на плиту сковородку, растапливаете на ней масло, чтобы чуть-чуть подгорело, и жарите чеснок. В итоге чесноком воняет на весь дом, муж приходит с работы и уже с порога довольно улыбается. Или вот что еще читала вслух: если муж ищет секретаршу моложе двадцати пяти лет, жена не должна говорить ему: «Знаю я, что тебе нужно». Куда умнее будет с этой секретаршей встретиться и сразу обо всем договориться: мол, вы его жена в законном браке, а секретарша пусть будет его женой на работе. Жена, у которой достанет ума провести такой разговор, проявит истинную мудрость, ибо кому как не нам, женщинам, знать: мужчина совершенно беспомощное существо, хоть и мнит себя венцом творения.
Резан сидела в холле, засунув руки в карманы, читала чеховскую «Даму с собачкой», перелистывая страницы языком или подбородком. И ей даже никто не говорил: «Если бы это увидел мужчина…» Резан рассказала мне, что Дмитрий заговорил в ресторане с дамой с собачкой, спросив у нее: «Можно дать вашей собачке кость?» Женщина кивнула, и тогда он спросил: «Вы давно в Ялте?» — «Дней пять». «А я уже вторую неделю», — сказал он. Потом они помолчали. Почему-то мне было очень приятно представить двух людей, которые молчат вместе. Но, может, они не просто так молчали, а тоже что-нибудь разучивали? Как те женщины, что учились соблазнять по вечерам своих мужей жареным чесноком, как заработать за час сто марок, как заводить дружбу с секретаршами своих мужей, а мужчина, тот и вовсе должен учиться быть беспомощным существом, сохраняя на челе венец творения.
Женщины в холле общития постоянно говорили о мужчинах, которых у них не было, однако и наш комендант-коммунист в своей комнатушке тоже без конца говорил о мужчине, которого никто из нас не видел. С тех пор как Ангел потеряла свой бриллиант, она все реже сидела в своей комнате на шесть коек и все больше времени проводила в комнатушке нашего коменданта-коммуниста, потому что и Атаман сидел там почти безвылазно. Атаман любил нашего коменданта-коммуниста, а тот любил Атамана. Когда они сидели в комендантской комнате, видно было, насколько они похожи друг на друга, даже сигареты свои они гасили одинаково — об стену или о дверной косяк. А говорили почти всегда об одном и том же человеке. В Берлине зимой темнеет очень рано, а свет они не зажигали. Ангел сидела рядом с ними с книжкой в руках, которую продолжала листать и в темноте. А они в темноте продолжали говорить об этом человеке, словно боялись, что от включенного света он может сгинуть. Человека звали Брехт. Только и слышалось: «Брехт, Брехт, Брехт»; они буквально слюной брызгали, произнося эту фамилию, особенно ее окончание «хт». Как и наш комендант-коммунист, Атаман тоже работал в Турции в театре и написал две пьесы. И он тоже любил этого Брехта и часто отправлялся на пару с нашим комендантом в другой Берлин в «Берлинский ансамбль», и тоже был знаком с женой Брехта Хеленой Вайгель. Эту Хелену Вайгель они оба называли просто Хелли. Когда Голубка, жена нашего коменданта-коммуниста, слышала имя Хелли, на щеках у нее проступали красные пятна, рот невольно слегка раскрывался и она принималась трогать родинку у себя над верхней губой. Наш комендант-коммунист любил повторять:
— Голубка моя, вот увидишь, я еще сделаю из тебя вторую Хелли.
Он хотел написать пьесу, чтобы Голубка сыграла в ней главную роль. Вместе с Атаманом они учили этого Брехта наизусть и то и дело хором декламировали одно и то же место:
Когда в белом женском лоне подрастал Ваал,
На бескрайнем небосклоне бледный свет сиял.
Эту бледную бескрайность, этот блеклый свет
Обожал Ваал заранее, выходя на свет.
Когда мы, трое девчонок, заглядывали в комнату коменданта-коммуниста, Атаман, не прерывая декламации, тем же тоном, произносил:
— Где же ваши бриллианты, подавайте их сюда!
И, как ни в чем не бывало, продолжал читать стихи:
В теплом лоне много места, так сказал Ваал…
Нужны силушка и опыт в этот первый год,
А еще порой мешает мне курдюк-живот…
Эту бледную бескрайность, наготу небес…
Выходя на улицу, наш комендант-коммунист и Атаман даже зимой не надевали пальто. На улице снег, а они только поднимут воротники курток и идут, руки в карманах, они уходили, то и дело повторяя «Брехт-Брехт-Брехт», уходили вслед за своими словами о Брехте, как будто слова эти способны их согреть. Слова вырывались у них изо рта прямо на холод, вместе с теплыми облачками дыхания, и летели перед ними. Переходя улицу, они не дожидались зеленого, шли без оглядки вслед за облачками своего дыхания, за своими словами, до пивнушки. Прежде чем войти, Атаман всегда повторял одну и ту же строчку:
— Что за люд такой презренный основался тут…
А когда ночью они снова выходили на улицу, он неизменно говорил:
— Я никогда не показываюсь лунному свету, не причесав волосы.
И целовал Ангела.
Однажды, сидя у себя в комнатушке, наш комендант-коммунист вытащил из ящика стола какие-то листки, аккуратно вырезанные из какой-то книжки. Вместе с Атаманом они разглядывали фотографии на этих листках и хихикали. Голубка тоже захотела взглянуть, но ей они не давали, прятали, словно это порнографические открытки. Наш комендант-коммунист усадил Голубку к себе на колени, принялся целовать, но, даже целуя, картинки ей не отдавал, держал высоко у нее над головой. Оказалось, на снимках вовсе не голые женщины, это были три детские фотографии Брехта. На одной он был в беленьком девичьем платьице, в руке хворостинка, которой он погоняет свою деревянную лошадку.
Ангел уже рассталась со своим бриллиантом, мы, трое девчонок, еще нет, но мы, все четверо, не могли спокойно видеть спины нашего коменданта-коммуниста и Атамана. Едва они выходили на улицу, мы, все четверо, иной раз и с набитым ртом, выскакивали из своих комнат и спрашивали, как когда-то в детстве спрашивали родителей:
— А нам можно с вами?
— Пошли! — отвечали те, и мы шли по пятам за их спинами.
Их спины заменяли нам карту города. Они шли обычно всегда в одну и ту же пивнушку. Не надо было запоминать станции метро, надо было не терять из виду их спины; мы входили, выходили, шли на пересадку, я наизусть знала каждую ниточку на их куртках, перхоть на их плечах, их волосы. Знала, на какой щеке лежали ночью их головы. Но в кабачке их спины разом пропадали, там искрилось пиво, и глаза людей тоже искрились, особенно когда они брали в руки полную кружку. Стоило кружке опустеть, гасли и искорки в глазах. Толстяк-хозяин мигом это замечал и подскакивал с вопросом: «Еще пива? Еще пива?» И почти так же часто, как произносилось слово «пиво», звучало слово «коммунист». Когда ты из своей полной кружки подливал в пустую кружку соседа, это называлось «коммунист». А когда кто-то отказывался делиться своей полной кружкой, это называлось «антикоммунист» или «капиталист». И после этих слов все смеялись. Коммунисты и капиталисты смеялись за одним столом. Наш комендант-коммунист читал при этом газеты или журналы и приговаривал:
— Вообще-то они пишут правду, надо только уметь ее вычитать. — И тоже смеялся.