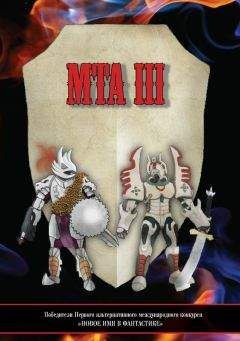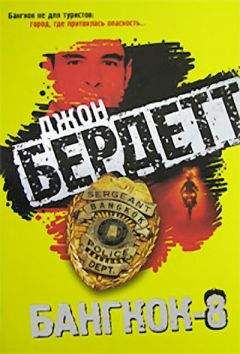Татьяна Мудрая - Геи и гейши
Недаром все религии перетаскивают друг у друга тайные, многозначные, каббалистические знаки и смыслы, сообщая им свои оттенки значений и оживляя такие, что им самим невдомек; на этой сокровенной и прикровенной связи держится любая ортодоксия. Религии враждуют деяниями своих членов, но наперекор этому связи упрямо множатся. В самой войне мнений — и не только их, но и прямого оружия, — люди с помощью того, что ими произносится, протягивают друг другу руки: о сладкие сети любви! Не люди говорят слова — это слова говорят людьми и через людей. За этой игрой и прихотью только и можно увидеть первозданный, грозовой смысл тех имен, что были вручены богом Адаму. Глубочайшее и бездонное море смыслов, которыми нужно играть и которыми нельзя играть безнаказанно. Ведь бродят бешеные волки по дорогам скрипачей, и бездна призывает бездну, волны обеих доходят до души, в них захлебывается сердце, и тьма смыкается над головой дерзкого. Тьма находит на тьму, тьма тьму покрывает, и внезапно рождается свет.
О купина моя! Горишь и не сгораешь, губишь и живишь; и как идеальная огранка бриллианта, будто александрит — камень священной императорской крови — высверкивают наверху, над домом, два четвероугольника, наложенных друг на друга, края их слегка вогнуты, будто парус, это знак полета и устремления, и сияние огромным зеленопламенным цветком исходит от них вовне, освещая Сад и Лес, лес — и всю Землю.
В знаке Стрельца
Имя — ИБИЗА
Время — между ноябрем и декабрем
Сакральный знак — Орел
Афродизиак — миндаль
Цветок — гиацинт
Наркотик — малина наговорная
Дерево — тополь, populus alba
Изречение:
«Фантазия — всего лишь часть, хотя и немаловажная часть, того, что принято именовать реальностью. В конечном счете неизвестно, к какому из двух жанров — к реальности или фантастике — принадлежит мир».
Хорхе Луис БорхесДействующий пейзаж представлял собой заснеженные горы, понизу закутанные в полог хвойного леса. Вдали солнце проваливалось меж двух вершин: солнце было ярко-рыжее, точно камень гиацинт, а снега белые, как одноименный цветок. Небо этой великолепной и многозначимой постановочной декорации пересекал клин диких гусей-казарок, улетающих на юг; они посылали земле свои крики, издали походившие на лай белошерстых и красноухих египетских собак, которые почуяли дичь. Гуси пересекали едва народившийся лунный круг, сквозь который просвечивала еще почти дневная, но более густая синева. И недаром: все казарки издревле посвящены были лунной богине Иштар и таинственному цвету ее покрывала. На склонах гор, в мирных долинах рос мак первого, ноябрьского посева, и хотя он далеко еще не созрел и даже не набрал еще цвета, добрые поселяне уже предвкушали в нетерпении, как весною будут острым ножом надрезать коробочки и собирать темные жемчужины его благодатной смолы. А у подножья гор, у самой тропы ничего не было, только тонкой натянутой струной трепетала и пела под холодным ветром сухая трава. Словом, был некий условный конец осени в неких условных исламских широтах, и если знаки его несколько перепутались, то лишь потому, что их не вспомнили, а измыслили тут же на месте.
Он — или уже она? — шел по тропе, что петляла посреди каменных глыб, иногда попадая своими грубыми башмаками в лужу с мутным известковым настоем, и камуфляж висел на нем как мешок из его собственной плохо приросшей к нему плоти, а ружье с куцым стволом пересекало грудь комбинезона. Объектив этакой штуковины служит явно не для того, чтобы любоваться туманными и романтическими далями, а для вещи более грубой и прозаической: ловить их и распинать на своем кресте. И Шэди не переставал дивиться отыгранной им — или все-таки его предшественницей — роли, несмело выглядывая с обратной стороны ее глаз, робко съеживаясь внутри непривычно большого и кряжистого тела. Как будто взяли и подменили все мои чувства, думал он. Мой рассудок знает, как ловить цель и нажимать на курок, помнит азарт и злой страх, но он — не я, мне никогда не суждено было стать даже военнообязанным, я же не убью и курицы, не говоря о том, чтобы ее съесть. И разве я знаю, что такое лошадь, восклицала в культовом романе времен моей юности некая госпожа Кокнар (говорящая фамилия, однако), и разве я знаю, что такое сбруя — особенно такая, что на мне самом?
Пушистая собака (всем бы овчарка страхолюдной местной породы, только покрупнее и ушей не обкорнали) догнала ее и оскалила зубы в хорошо прочитываемой усмешке.
«Да не обкурилась я, — с досадой подумала Ибиза, расплываясь своей личностью по всем окрестностям и закоулкам своего тела, — ни анашой, ни сеном. Неоткуда было взять. Вот психику как следует зашибло. Нет, Бергман ни шиша не смыслит в смерти: только представьте себе, черный субъект в черном плаще и еще в шахматах знаток. А как насчет грязной и лопоухой белой суки?»
Она, как в дурмане, чувствовала нытье в правой части живота. Раньше то была горячая клякса боли, после которой она сразу же провалилась вниз, пробиваясь телом сквозь колючки и камни с острыми ребрами, и вырубилась. Слово кстати, не ее, это жаргон сверстники Ибизы изжили назад тому лет двадцать. Говорят, всё, что ты переживаешь за несколько минут, отделяющих тебя от полной потери сознания, не уходит в долговременную память, стирается. «И тут некто огрел меня по голове чем-то тяжелым, после чего я потерял сознание» — наглейшая выдумка борзописцев. Только я знаю о себе чуть побольше, сказала Ибиза: от того склона до речного берега — несколько почти блаженных секунд полета, камушки там округлые и даже вроде мягкие… хотя тогда уже был во мне тот пришлец, который сидит теперь во мне, как пес в будке и червяк в яблочной сердцевине, и боится нос высунуть наружу, чтобы птичка не склевала. И ведь, пожалуй, именно этот трус починил дырку в кишках и остановил кровь, и это он двигает теперь моими ногами… левой, правой, левой, правой, шагом арш… осваивается понемногу, забирает себе в качестве трофея мой опыт, этот альбом батальных зарисовок… впитывает чужое, точно разовая гигиеническая салфетка. «Мягкий комфорт бумаги Лотус». Своего дерьма у него, надо полагать, нехватка. А, ну его ко всем чертям! Он так прозрачен и переимчив, так легко впадает в шоковое состояние, что сам вот-вот в ней, Ибизе, исчезнет, растворится, как порошок в аперитиве. Ага, вот и чудесно: твоя жизнь, мой странничек, теперь моя жизнь, а какая по счету — вторая, седьмая или девятая (последняя, если верить господам Олди) — замнем для ясности.
Деревня вынырнула из сумеречной дымки, когда Ибиза вышла на дорогу, что вела к ней — и больше никуда. Дома за плотными заборами, которые забрызгали или нарочно вымазали грязью, были слепы. Все имело тут один оттенок: тощей бурой земли. Поодаль старинные четырехугольные башни торчали из горного склона, будто зубы дракона, посеянные враждой в эту землю, распаханную копытами и колесами, сапогами и гусеничными траками, — самой давней враждой на земле и многими, за ней последовавшими.
— Дома совсем нежилые, — подумала вслух Ибиза. Так было вроде веселей — слышать хоть чей-то голос. — А ведь и следа нет ни бомбежек, ни зачисток, ни пожаров. Не знаю, нравится мне это или нет, только уже не выбрать, верно, псина?
Дорога тем временем впала в улицу чуть пошире прочих, улица перешла в площадь. Это была площадь мечети, с трех сторон окруженная айванами, как бы комнатами или террасами под сводом, но без одной стены, и они сразу же сомкнули свой нарядный строй за спиной женщины, как бы не желая выпустить ее обратно. Сама мечеть, которая стояла за дальними воротами, имеющими вид толстой квадратной пластины, была небольшая, но вся в удивительных узорах. Ее лазурный восьмигранник сторожили два минарета, и острые башенки небесных маяков взлетали в небо с той отвагой, что проистекает лишь от истинного смирения — того смирения, что никогда не будет сродни ни тоске, ни самоуничижению.
Впрочем, как и в любом сне, контуры здания и его окрестностей не удерживались в одной форме, изменяясь самым лукавым образом, и даже подойдя вплотную и разглядывая то один, то другой айван, Ибиза не смогла решить, что же, в конце концов, перед нею: торговые ряды, медресе, баня-хаммам, чайхана или даже кабак наподобие той таверны среди руин, о которой писал Нурбахш: хозяином такого заведения обыкновенно числился либо опальный персидский маг, либо христианский священник. В более спокойные времена жители заполнили бы всю площадь с прилегающими к ней дворами своей повседневной суетой, а теперь их или не было в селении вовсе, или попрятались все за стены своих дувалов — глинобитных семейных крепостей.
— А вдруг именно здесь осталась жизнь, — громко подумала женщина.
Ей почему-то представилось, что замкнувшееся вокруг нее пространство, чего-то от нее ждущее, — это пространство и есть конечная цель ее томительных поисков по ту и эту сторону жизни, ее стремления отыскать не подвергшееся утеснению и истреблению и даже не могущее его испытать. И эта неущербленная жизнь сразу выдаст себя благодаря особому вкусу и аромату, которые ни с чем не спутаешь, даже не испытав до того ни разу.