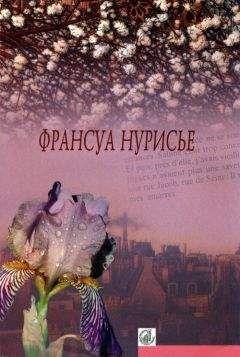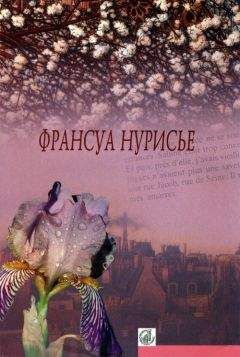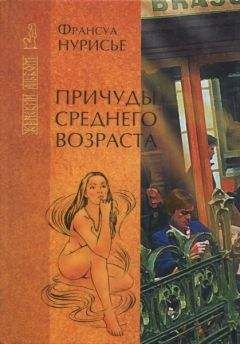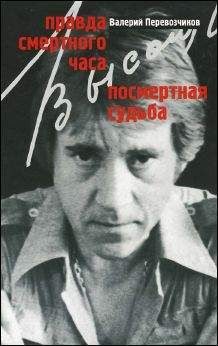Франсуа Нурисье - Украденный роман
Врач, с которым я советовался, уверил меня, что «ничего неврологического» у меня нет, но я, может быть, страдаю каким-то сокращением или тетанизацией мышц. Он выписал мне таблетки, погружавшие меня в глубокое оцепенение, которое сразу придавало моим каракулям вялый, покорный характер, прежде им не свойственный. Слава Богу, что врач избавил меня от фразы о «судороге писательской руки», которой я боялся. (Я — видит Бог! — не работал так много, чтобы подцепить судорогу.) Но по тому, как врач на меня посмотрел, сначала предложив мне написать несколько слов (в сравнении с его собственным почерком он не счел их совсем уж жалкими), я понял, что он сомневается в моем психическом равновесии. Разве эта кража не повлияла на мое здоровье, как я уверял врача? Разве после этого чувство вины не портило процесс письма, потому что дело заключалось в том, чтобы, сочиняя «нечто другое», похоронить украденный текст? И т. д.
Я всегда знал, что хорошо писать означает создавать гармоничную прозу и вместе с тем правильные, хорошим почерком написанные слова. Плохо написанная, то есть исчерканная, сделанная наспех, страница — это, как правило, плохая литература. Когда рука, не стараясь писать каллиграфически, выводит свой текст непринужденно, легко, весело, текст этот почти всегда удачный. Мораль учителя времен 1900 года? Да нет, мы все испытываем нечто подобное. Во всяком случае, этот принцип казался мне таким неопровержимым, симптом болезни таким ясным, что я начал терять уверенность в работе, за которую так отчаянно пытался снова взяться. Что со мной происходило?
Неужели у меня украли также и мой почерк? Тот почерк, который давался мне с огромным трудом, больше не имел ничего общего с моим почерком; он был его робкой, торопливой, уменьшенной карикатурой (тем, что позднее врачи назовут «микрографией»).
Десятки раз в час я поднимал правую руку и на уровне глаз держал горизонтально дряблую ладонь, подстерегая ее дрожь. Иногда рука выглядела спокойной и устойчивой, что меня успокаивало; иногда мне казалось, что я замечаю едва уловимое подрагивание, как если бы в ней жили неведомые крохотные создания, которые, когда шевелились, создавали у меня впечатление какого-то возбуждения, чьего-то нетерпеливого присутствия, к примеру толпы, топчущейся у дверей в театр. На какой спектакль? Спектакль моего полного краха? Спектакль изнуренного, вконец ослабевшего человека, который сидит за столом и разглядывает свою руку? Мой указательный палец сводили еле заметные судороги, слабые, но неустранимые, а мои ноги ни с того ни с сего, по собственной инициативе, начинали «приплясывать», как это делает строптивая лошадь.
Когда я приходил к себе в кабинет и садился за письменный стол, перебирая в уме обрывки фраз, которые уже начинали складываться, я на несколько мгновений забывал, какая трудность меня ждет. Мне казалось, что я сразу наброшусь на страницу с той же торопливостью и неустрашимостью, которые в течение многих лет приносили мне радость первых написанных строк. В те времена у меня никогда не возникало никакого страха перед чистой страницей; наоборот, была жажда работы, нетерпеливость. Это слегка напоминало желание отважиться сделать первые штрихи рисунка. Теперь, как только я прикасался к бумаге шариком авторучки, меня сковывала неловкость, которая обостряла испытываемый мной страх. Придет ли нужное слово, позволит ли оно себя написать? Я давал моей руке двигаться свободно, но она застывала в нерешительности, скользила в сторону, и это соскальзывание заканчивалось какими-то каракулями. Потрясенный, я смотрел, как слово, которое я с наслаждением начинал с красивой прописной буквы, хорошо выписанной, величественной, закругленной, через несколько миллиметров уменьшалось, сморщивалось до размера козявки из носа, шерстяной ниточки, раздавленного муравья. Я раздраженно зачеркивал увечное, безобразное слово и снова его писал, старательно следя за каждым движением авторучки, писал медленно, неуклюже, заставляя непослушную руку делать смехотворные усилия, чтобы округлить А и О, согнуть F, придав им обманчивую гибкость рапиры, изящество стройной осанки, но мне удавалось лишь воспроизвести на бумаге почерк тупицы-ученика, спешащего выбежать на переменку, или стареющего врача.
Скоро я был вынужден признаться себе: смысл написанного текста теперь отходил на второй план, уступая место тревоге о том, хорошим или плохим почерком он будет написан. Я ловил себя на мысли, что я, вместо того чтобы прислушиваться, поет или скрежещет во мне долго отыскиваемое слово, и подготавливать ему соседство, аккомпанемент, концентрирую внимание на процессе написания, на внешнем виде написанного, на моих движениях. Я уже не писал текст, я занимался какой-то кропотливой, но неблагородной ручной работой. Я, близорукий старик, продевал нитку слов в игольное ушко. Моему дрейфующему почерку было необходимо бросить якорь. Или проигнорировать эту трудность? Снова вернуться к пишущей машинке?
Я слишком много и слишком долго возился с текстами, не выпуская из рук авторучку, я не предам ее. Писание — это единственный пульс, в котором я еще прослушиваю биение собственного сердца.
Мне пришлось не раз и не два ходить на консультацию к врачу. Да, со мной произошла именно «неврологическая передряга»: разве я уже давно не понимал этого? Поскольку мне обещали «восстановить мой почерк на восемьдесят процентов», значит, я действительно его потерял.
Без-дельник
Мальчишкой я слишком часто дулся. Если меня спрашивали, чем это я недоволен, я одним духом выпаливал: «Я-хочу-есть-я-хочу-пить-я-хочу-спать-и-мне-скучно…» Эти слова стали одной из молитв моего детства. Даже в одиночестве я твердил ее. Я разматывал ее словно змею из слов, растягивая «j’m'en» из «j’m'ennuie» и, Бог знает почему, заканчивал последний слог слова «ennui» на бельгийский манер, произнося его как «oui», а не «nuit» или «fruit»[12], что придавало этому выражению характер заклинания.
В общем, с возрастом я лучше не стал. Еда, питье, сон остаются моими любимыми видами безделья. Мои искушения обжорством, алкоголем и сном стремительно увлекают меня вниз словно по крутым склонам. Иногда склонность (в частности, к выпивке) оказывалась неудержимой. Остается объяснить скуку, более загадочную.
Я умалчиваю о самом неприятном: об опустошенности, о тусклом взгляде, о дряблом теле. Эта физическая или отроческая скука не может устоять против хорошей книги или же, в случае неудачи этого классического метода лечения, против сна, что, к сожалению, возвращает нас к предшествующим размышлениям. Более тревожит то, что я назвал бы скукой в работе или предваряющей работу; она подобна, наверное, пресловутому страху перед чистой страницей, который я считаю вздором и утверждаю, что он мне неведом.
Будем говорить откровенно. Случается, что в кабинете, где ты всего несколько минут назад с такой радостью заперся, у тебя ничего не ладится. Светит ли солнце, гасят ли его облака, все как-то тускнеет. И тогда, словно у тебя смыкаются веки, наваливается скука. Ах, это слово нелегко ставить в текст, оно не слишком приятно. Скука принадлежит к тем мелким личным слабостям, о которых пристало умалчивать, чтобы продолжать быть на высоте. Но к чему обманывать? Кстати, даже в работе бывает скука и скука. Та скука, о какой я пишу, не похожа на бездонную пустоту, которую наблюдаешь в поезде у отдельных пассажиров, что способны целых шесть часов сидеть, не читая, не впадая в дремоту, не глядя на пробегающий за окном пейзаж и даже не смотреть на молоденькую, в слишком короткой юбочке девушку, которая томно вздыхает, наматывая на палец прядку волос. Ту скуку, о какой я думаю, можно было бы в возвышенном стиле назвать раздумьем и украсить им чело творца. Она нисколько не грозит литератору, который пишет, сидя на садовой скамейке и положив блокнот на колени; фамильярные позы не допускают скуки; она таится и подстерегает меня в святейших местах работы, там, куда, как узрел ясновидящий гельвет, на рассвете пробрался мятежный тинэйджер и завладел «Ласточкой». Именно такая скука — полная неспособность к работе, сознание ее никчемности, безволие — наступает, едва я, устав бороться со скользкими или вялыми словами, откладываю перо. После этого начинаешь оглядываться, ищешь глазами любой предмет, чтобы отвернуться от страницы; так в кафе или в автобусе какой-нибудь зануда говорит, ни к кому не обращаясь, в надежде подцепить собеседника. Скука может продолжаться весь день (с перерывом на обед и красное вино), и ее бесплодие неизлечимо.
В те летние дни 1994 года, когда я каждое утро садился за письменный стол, подобно простодушному неверующему, который опускается на колени, пытаясь поймать в западню веру, скука уже бродила вокруг меня. Вы хорошо представляете себе место, обстановку, мизансцену? Угадываете мое душевное состояние? Это было душное, спокойное лето со стоящим в зените солнцем, с бодрыми, но быстро увядающими рассветами: с каждым часом небо делалось все более свинцово-тяжелым, вечером разражаясь раскатами грома.