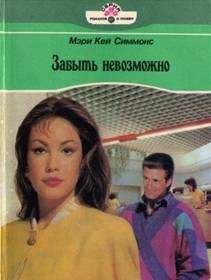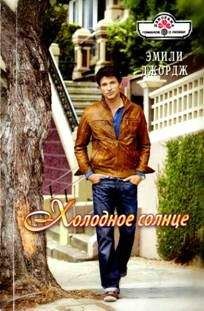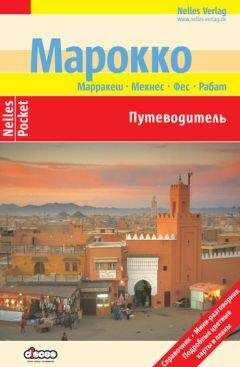Валерий Вотрин - Последний магог
Но тут произошло самое удивительное. Шаман закончил свою проповедь, и ему захлопали. Он не обратил на это внимания, а наклонился и принялся собирать деньги — да, ему кидали монеты и купюры! Словно гром небесный поразил меня — я стоял и смотрел. Шаман собирал монеты, некоторые откатились довольно далеко. Он шел туда, где они лежали, и подбирал их. Он подобрал их все, развернулся и, не слушая редких хлопков, удалился.
Тогда и я потихоньку ушел.
Совсем озадаченный, возвращался я домой. Что мне сказать землякам? Рассказать ли о том, что я видел? Поверят ли мне? Или, что важнее, отнесутся ли к этому серьезно? Ведь для них речи шамана да и он сам — всего лишь ручей, журчащий в стороне, дальние раскаты грома. Но что если этот гром предвещает грозу? Как-то они встретят потоки ливня? Разные мысли мучили меня, пока я шел домой.
И я не смог принять никакого решения. Кажется, я ходил кругами, словно в ослеплении, и никак не мог найти дома. Я выходил то на одну, то на другую улицу, и все были чужие. В этом большом городе я заплутал.
Лишь к вечеру я возвратился и сразу поднялся наверх. Комната шамана была в конце коридора. Я подошел к его двери. Она была приоткрыта, и из-за нее доносился его голос. Я удивился: голос не был похож на его обычный голос, стенающие нотки появились в нем, он умолял о чем-то. Он почти плакал:
— …здесь, в чужих землях, и обращался к тебе не единожды, — а ты слышал ли меня? Преклонил ли ухо свое? Слышишь ли меня теперь? О Великий Дух Курукчычар, услышь меня хоть единожды!..
Он говорил много, но на своем языке, и я не все понимал. Вдруг раздался сильный удар в пол, послышался резкий звон колокольцев. Я, долго не раздумывая, распахнул дверь и вошел.
Он стоял лицом к двери с посохом в руках, лицо его было перекошено от ярости, обращенной не ко мне. Сначала не ко мне. А потом, когда постепенно взгляд его прояснился и он увидел меня, глаза его зажглись уже настоящим гневом.
— Что? — заговорил он отрывисто. — Что ты здесь? Почему не там? Кому ты здесь? Когда там?
Он говорил на нашем языке, но вкладывал в слова смысл языка шаманов. Я был в растерянности. Я не знал, зачем пришел. Я проговорил:
— Когда ты пойдешь обратно в Магог?
Хуже вопроса придумать было нельзя. Зачем я спросил об этом? Испугался? Рассердился? Но он не дал мне разобраться. Он подошел почти вплотную и процедил:
— Я заметил тебя там. Ну иди, расскажи им.
Я видел его глаза очень близко. Ничего в них не было, кроме страшной тоски.
Язык не ворочался. Похоже, я испугался. Или рассердился? Я проговорил:
— Нет, не пойду.
И еще головой помотал.
И тогда он спросил, как в первую встречу, но теперь скорее с удивлением:
— Что ты такое? Что ты здесь делаешь?
Его вопрос не сразу дошел до меня. А когда дошел, я сказал себе: «Шепчу, этот человек опять хочет знать, кто ты, и он — шаман, несмотря ни на что. Мы тут одни. Никто тебя не услышит. Скажи же ему наконец, скажи так, чтобы он понял».
Я сказал:
— Однажды птица дундук свила себе гнездо на вершине дерева кеттык, чтобы вывести птенцов. Но налетел ветер, дерево кеттык зашаталось, и птица дундук взлетела и полетела в другое место, где стоял лес деревьев чучму. Она опустилась на вершину одного, свила себе гнездо и вывела птенцов.
Он рассмеялся. Да, в ответ он рассмеялся. На это было довольно страшно смотреть — рот его раскрылся и исторг серию отрывистых громких хрипов. Он еще и голову закинул. Потом он сказал:
— Птица дундук отбилась от стаи, ослепленная ураганным ветром. В ослеплении принялась она метаться туда-сюда, ничего не видя, потому что глаза ее были засыпаны песком. Мощное дерево кеттык стоит как стояло, гнезда других птиц украшают его могучие ветви. Только птица дундук улетела в лес ядовитых деревьев чучму, подлежащих искоренению. Там, вдали от дома и от стаи, встретит она свой скорый конец.
Только тогда я наконец понял, какое чувство владеет мной. Я был сердит. Да, я действительно рассердился. Я сказал ему, этому человеку, оставленному духами:
— Дерево кеттык стоит, но ветви его намазаны смолой. Бьют птицы крыльями, не могут взлететь. Прочно приросли их лапки к ветвям, невозможно оторвать. Но рано или поздно они оторвутся от дерева. Рано или поздно они улетят. Останутся лишь накаркивающие беду безобразные черные вороны, которым некуда лететь.
Он пронзил меня взглядом, но я никуда не делся — стоял там, где стоял. Кажется, он не ждал, что я отвечу ему. А может, ждал. Я ничего не мог прочесть по его лицу. Лишь побелевшие пальцы его сжимали посох.
— Я был там, — донесся до меня его хриплый шепот. — Я был у бега, когда ты говорил о Духе Балбане. Я узнал тебя. Он вправду говорил к тебе? Он, Великий Дух?
Я кивнул. Я уже знал его следующий вопрос. Но все-таки я подождал, когда он его мне задаст. Все-таки он был шаман, пусть и оставленный духами. И когда он спросил:
— Шепчу! Он вправду говорил о черном баране с белой ноздрей? — я уже знал, что говорить, и я ответил ему:
— Да, Великий Дух Балбан говорил о черном баране с белой ноздрей. Черного барана с белой ноздрей должны были вы заколоть. Заколот должен был быть черный баран с белой ноздрей, а не белый баран с черной. Так велел Великий Дух Балбан.
В ответ шаман завыл. Сначала тихо, потом громче и громче. Он выл, закрыв лицо руками. Это был жуткий утробный вой. Тут я понял, что неправильно рассудил: вовсе не ярость владела мной, а страх. Да, я был испуган с самого начала. Не надо было мне ходить к шаману. От них вообще надо держаться подальше. Я сделал один шаг назад, потом еще один, а потом оказалось, что я уже в своей комнате. Кажется, я сбежал. Я напряг слух. Вой затих. «Шепчу, — сказал я себе, — если ты пойдешь к нему еще раз, я не знаю, что с тобой сделаю». Но одновременно с этим мной владело какое-то удовлетворение. Я не покривил душой, сказав правду о черном баране с белой ноздрей. И хоть я был голоден и испуган, мысль об этом успокаивала. Я быстро уснул.
ТЕШ
А тогда, чуть-чуть опережая зиму, возвращался я в родное селение. Полдня длился переход, а позади, если вглядеться, шел буран, набухал темной тучей, катился по степи. Я почти не останавливался — только поил коня и пил сам, наскоро перехватывал сушеного творога, взятого в дорогу, и снова садился в седло. Вокруг уже начинал тоненько посвистывать ветер, небо темнело на глазах, опускалось все ниже и ниже. Что есть мочи погонял я коня. Сзади шел буран, надвигалась лютая, долгая зима.
Прибыл, когда начало смеркаться. Ветер уже выл вовсю, носились в воздухе редкие колючие снежинки. Селение словно опустело, редкие дома стояли освещенными. В нашем доме окна не светились. Я отворил дверь, шагнул внутрь. Темно, холодно, пусто. Никого нет. Где мать? Ничего не понимая, я опустился на лавку. Зажег светильник. Пыль кругом, разбросанные вещи, холодный, давно не топленый очаг. В доме долгое время никто не жил. Страх охолодил мне нутро. Где мать? Почему дом стоит пустой? За окнами выл буран, заладила дикая снежная круговерть. Я разжег очаг, наскоро поел и стал ждать. И весь темный дом стал ждать вместе со мной.
К полночи раздался негромкий стук в дверь. Я открыл, и внутрь ввалился огромный человек в заснеженной дохе — Бурчи. Молча встал на пороге.
— Заходите внутрь, — пригласил я, чуя неладное. — Проходите к очагу, погрейтесь.
Бурчи подошел к огню, протянул к теплу руки.
— Давно приехал? — спросил через плечо.
— Недавно, как раз до бурана.
— Повезло. Такая метель, что руки не видать.
Дом Бурчи был недалеко от нашего, идти ему было недолго, но в такую погоду даже для недолгого пути должна была быть веская причина.
Бурчи повернулся, снял доху, сел. Чувствовалось, что он готовится что-то сказать.
— Беда пришла в твою семью, сынок, — произнес Бурчи, и сердце мое оборвалось. — Мать твою схоронили два месяца назад. Хворь неизвестная напала. Полселения с тех пор перемерло. Шалбан-ага помер. Говорят, в соседних хосунах так же: валятся люди, сгорают за пару дней.
Мне было трудно дышать. Говорить я не мог. Потом выдавил:
— Нишкни?
— Жива, — кивнул Бурчи. — Вырыла себе землянку на склоне холма, там теперь живет. К людям не приближается. Совсем дикая стала.
При этих словах мне ужасно захотелось к Нишкни. Она была теперь единственным родным мне человеком, родной душой. Я бы пошел к ней сразу же, не обращая внимания на буран, если бы не тяжелая рука Бурчи, опустившаяся на плечо.
— Буран такой, что ты собьешься с пути, не сделав и двух шагов, — сказал он. — Утром пойдешь. А пока давай матушку твою помянем.
Он вытащил бутыль ойрака, развернул сверток с мясом и хлебом. Мы выпили.
— Я сидел с ней, когда она умирала, — произнес он в тяжкой тишине. — В беспамятстве была, все звала тебя.
Говорить я не мог. Не мог ответить ему. Ком стоял в горле, и ойраком было не растворить его.