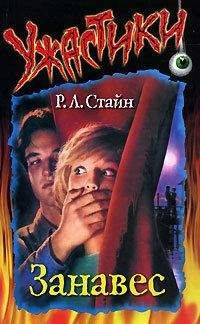Рээт Куду - Свобода и любовь. Эстонские вариации
— Никому я ничего не загоняла, — отбиваюсь я. — Думаешь, лучше мне сидеть сложа руки, пока ты не можешь обеспечить меня фронтом работ?
— Как не могу?! Выходит, тебе нечем заняться? — от моих слов Карла только пуще входит в раж. — Передовой сотрудник фирмы сам ищет себе занятие. Трудится на пользу фирме и себе самому и в конце концов получает служебное повышение и прибавку к жалованию. На что мне человек, которому нечего делать? Уволю! Немедленно! У нас тут не советский строй. Искать себе занятие ты должна сама! Не умеешь добывать новых клиентов, делай хоть что-то… Главное, чтобы фирме была выгода. Ну что ты, Рийна, в самом деле умеешь?
— Не-е, не-е, не знаю, — уныло блею я. — Я все распоряжения выполняю от и до. А сегодня в фирме вообще не было клиентов.
— Да я не об этом, — нетерпеливо обрывает меня шеф. — Что ты в жизни еще умеешь делать? Кроме того, что сидишь здесь день ото дня с кислой физиономией и своим мрачным видом отпугиваешь мне клиентов. Что ты делаешь еще? Вечерами? Вязать умеешь?
— Не-ет, — печально вздыхаю я.
— Ну так вышивать? — настаивает Карла.
— Вязать? Вышивать? — во мне зреет тихий протест. — Зачем? В этой фирме?…
— Да что ты знаешь о фирме?! — обрывает меня Карла. — Мы торгуем всем, что только можно продать. Иностранцы с ума сходят от разных там штучек в национальном стиле. Что ты умеешь, отвечай! Ты, двадцать два несчастья! Неужели ничего?
— Рисовать умею, — чуть слышно бормочу я.
— Знаю! — театрально вздыхает шеф. — Но это умеет каждый школьник, каждый младенец. Для бизнеса подойдет в лучшем случае масло, в худшем — гравюра. А не пустяковые карандашные рисунки. Ты когда-нибудь пробовала продавать их?
— Летом на пляже я рисовала отдыхающих, — поколебавшись, признаюсь я. — Случалось, что за рисунок платили двадцать пять крон.
— Двадцать пять?! — разочарованно стонет Карла. — Да я лучше голодать буду, чем приму такую грошовую подачку!
— Я и голодала, — еле слышно говорю я.
— И поделом тебе! Не умеешь делать дела, так и не лезь! — шеф внезапно демонстрирует отеческую заботу. — Кто-то еще интересовался твоими картинками? Кроме отдыхающих на пляже?
— В Москве скоро выходит один альбом авангардного искусства, ну, такие гротескные картины, как бы это объяснить… Я и сама толком не знаю, почему, но я в нем из Эстонии — одна. Говорят, мои работы фантастичны и самобытны. Во всяком случае, напечатают.
— Сокровище ты мое! — в восторге кричит низкорослый лысый шеф. — Тебя печатают в России — а ты продаешься здесь за медный грош, за ничтожные сенты?!
Воодушевление Карлы мне непонятно.
— Мне и в России гроши заплатили. Если перевести в кроны, всего ничего.
— Это в бизнесе сенты и копейки что-то значат, а в искусстве нет! — отечески отчитывает меня шеф.
Я ушам своим не верю: Карла говорит об искусстве?
— Чего таращишься? — он слегка обижается. — Если я умею делать дела, это еще не значит, что в искусстве я — как свинья в апельсинах.
— Не-ет. Конечно, нет! — я изображаю на лице улыбку. — Но только что даже вязание и вышивки были лучше моих детских каракулей. И вдруг…
— Альбом твой — не Бог весть какой заработок; может, я тебе стану платить намного больше, — объясняет шеф. — Но это реклама, признание. Поняла? Россия дала миру Шагала и всех прочих… забыл фамилии, да это и не важно. Для коллекционера русская работа — совсем не то, что для человека, покупающего телевизор или холодильник. Русское искусство стоит высоко; оценка московских специалистов позволяет просить за твои рисунки настоящую цену! Это же знак качества, глупенькая! Тебе такой шанс дали, а ты и им не умеешь воспользоваться! Да пусть тебе издательство платит копейки, при такой рекламе я любую твою мазню продам не дешевле, чем за несколько сот марок. Запомни слова старого Карлы! Пустого рукоблудия я, конечно, не потерплю, но коли эту штуку можно продать, я за нее последние штаны спущу…
— С кого? — беспомощно лепечу я.
— Да хотя бы с этого, — Карла помахивает отобранным у меня шаржем. — Ты этого хмыря лихо изобразила: шарж это или что? Не стану же я ему рассказывать: это моя секретарша от скуки набросала. Я расскажу о московском альбоме и о том, что русские признали молодой талант. У русских глаз — алмаз, а у Карлы деловое чутье — лисье! Буду платить тебе пятьдесят процентов; нет, это много! Я бы вообще мог вычесть у тебя из зарплаты за то, что ты в рабочее время малюешь. С пятидесяти процентов ты у меня нос задерешь и начнешь кутить. Буду выдавать тебе с каждой картинки по двадцать дойчмарок, чтобы ты научилась прилично одеваться. Ну, максимум сотню — на представительский костюмчик. Считай это подарком папы Карлы своей секретарше.
Широко раскрыв глаза, я слушала, как глава фирмы за мои же деньги обещал преподнести мне подарок. Вот уж действительно крутой бизнесмен! Но в конторе у Карлы я уже привыкла к тому, что эстонские бизнесмены зачастую делают подарки именно таким вот способом. Армянская щедрость кажется им глупостью, русская привычка дарить — лицемерием. Карла всегда подчеркивал: подарок — все равно, что взятка, а пятидесятисентовая экономия — тоже прибыль. Умение считать деньги и отличает трезво мыслящего человека от транжиры. По-моему, такое мышление характеризует нацию. Армянский бизнесмен сочтет позорным не попотчевать гостей. Карла со спокойной душой не станет тратиться на угощение, чтобы не прослыть приспособленцем. Впрочем, я замечала, что и мой шеф время от времени включал все “механизмы пройдошества” — правда, лишь в том случае, если был уверен, что расходы на угощение обернутся чистой прибылью.
Меня раздражало, что руководитель фирмы, составляя черновики, пишет на обеих сторонах листа. Белая бумага была бесплатной, подарком одного русского партнера, но Карла не мог отказаться от своей привычки. С той же скупостью, с какой он исписывал каждый листок от края до края, с лицевой стороны и с изнанки, он пытался использовать все — до последнего миллиметра, до последней нитки, до последней крошки, до последней капли крови.
Шеф позволял предметам или людям оставаться неиспользованными только если не видел, какую прибыль принесет их применение. Но едва почуяв возможность пожать плоды, Карла сжимал вещь или человека железной хваткой.
Однажды в фирме очутилась я — бесполезная доченька полезных знакомых. Но отныне я должна рисовать. Буквально штамповать картины.
Меня саму изумляло, как быстро рисование, бывшее для меня радостью, превратилось в проклятие, изнурительную и опустошающую каторгу.
Единственным спасением было уехать. Как можно дальше… К счастью, мои вояжи в Москву были теперь для Карлы рекламными поездками и он не возражал. Порой мне казалось, что он ждет выхода моего альбома еще нетерпеливее, чем я. Он считал, что я обязана протолкнуть свои рисунки еще в какое-то печатное издание. Каким образом? А это уж моя забота. Поезжай, организуй!…
И я ехала в наркотическом опьянении свободой.
Входя в вагон, я все чаще чувствовала, что моим настоящим домом становится поезд. Крошечная Эстония не вмещала в себя поезда — оттого, наверно, мои знакомые эстонцы предпочитали ездить автобусами — даже если это вдвое дороже и автобус набит под завязку. Гуманные водители, плюя на правила дорожного движения, подсаживали земляков, так что половина пассажиров ехала стоя. Но эстонцам все равно нравилось колесить по своей стране в таких привычных душных бензиновых колымагах. Поезда пронизывали родную землю насквозь и исчезали вдали, на чужой территории, на опасной почве, уносясь в места, достойные лишь отчуждения и отрицания.
Правду мои соотечественники впрямую не высказывали. Говорили, что в поездах стоит вонь — признак присущей чужакам неряшливости, невоспитанности и вульгарности. Совместные трапезы в купе отвергались как неуместные — при поездках на короткие расстояния в автобусе они были немыслимы. Говорите, и в автобусе может попасться попутчик, который всю дорогу будет жевать бутерброд с колбасой, провоняв своим завтраком весь салон? Что вы, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! Скорее уж вы встретите человека, ослабевшего от усталости и голода; он в столице до полного изнеможения бился за интересы маленького городка…
Утомление от непосильной работы входит в натуру эстонца. Молчаливых пассажиров часто окружает аура загадочной и благородной усталости от дел, а иногда и тонкий сигаретный аромат, но никогда — ядреный дух дешевой колбасы, невежливая назойливость пищевых запахов. Эти запахи заставляют общаться, витая над местом соседа, разрушая естественную для эстонцев склонность замыкаться в себе и во всем привычном, что тебя окружает. Еда — это еще более вульгарная и пошлая навязчивость, чем попытка завязать разговор. Тут хоть можно отбиться холодной вежливостью. А как отобьешься от атаки ароматами? От общения через запах? В конце концов, ест он свое, колбасу никто не запрещал, как, впрочем, и хамство. Это ужасно, это мучительно…