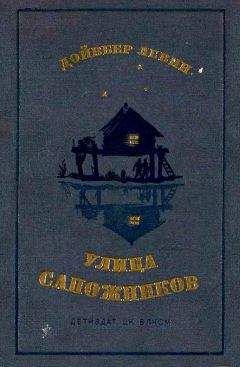Олег Ермаков - Холст
Около полуночи позвонили. Он отложил журнал, подошел к “конторке” билетерши, снял трубку, взглянул на стеклянную стену фойе: над фонарями и черными деревьями кружился снег – беззвучно, хотя ноябрьский снегопад можно сравнить с клавиатурой, нет?
– Да?
– Добрый вечер. Куда я попал?
– Кинотеатр.
– “Партизанский”?
– Вы угадали.
Короткий смешок. Голос слегка картавящий.
– Надеюсь, я вас не очень потревожил?
– Нет.
– Да ведь вы на службе.
– Разумеется. Но – не автоответчик.
– А ваш автоответчик как раз и не срабатывает. Проверьте.
– Хорошо.
Проверка? кто-то из администрации? но там одни женщины. Вообще сторож не обязан вести телефонные беседы.
– Я, собственно, хотел узнать о программе на следующую неделю.
– Ничем не могу помочь.
– Да?
– Да.
– Странно. – Трубка помолчала, вздохнула. – Нет, я понимаю, я же не сумасшедший. Просто подумалось, что… ну, если логически рассуждать? Служба все равно обязывает бодрствовать.
– Надеюсь, завтра починят автоответчик.
– Простите, – откликнулась трубка.
Охлопков опустил свою, не дожидаясь гудков с той стороны.
Крыльцо уже все побелело. Он допил чай, взял сигарету, вышел на террасу. Здесь от снега защищал массивный и широкий козырек.
Охлопков вдохнул снежный воздух, послушал. Снег молчал, как он ни напрягал слух. Иногда со стороны дороги долетало рокотанье моторов.
Мимо прошла женщина с черным псом. Пес угрюмо посмотрел сквозь снег на Охлопкова, ответившего ему разгоревшейся сигаретой. Женщина тоже взглянула на него, обратив к кинотеатру большое лицо с темными глазами и темными губами. Они прошли дальше, пес и женщина в шуршащем плаще и шляпе. Охлопков смотрел им вслед. Почему бы этой даме не взойти к нему на крыльцо, попросить зажигалку… Его одолели извечные фантазии одиноких молодых мужчин. Он вздохнул, бросил окурок и вернулся в фойе. Нахлынувшее желание томило. Он виновато покосился на иконостас советского кино – киностас с серьезно-вдумчивыми и сдержанно улыбающимися актерами, на буфетную стойку со стопкой салфеток, зевнул. Эрос в загривок толкает, как грубый учитель нерадивого ученика. Эрос, Эреб, Эрзац… Надо будет справиться в словаре про Эреб, что-то в этом…
Снова раздался звонок. Или удар по клавишам пианино. Нет, звонил телефон. Охлопков подошел к “конторке”, помедлил и взял холодную трубку.
– Алло? – тяжело спросил он.
– Гм, хм, э-э…
Черт, неужели снова этот киноман?! – подумал Охлопков, встряхиваясь, трезвея от полусна. Да, это был он. Голос звучал просительно.
Неизвестный объяснил, в чем дело. Обычно он перезванивался с предтечей Охлопкова…
– С кем? – не расслышал Охлопков.
С предшественником. Куда он исчез? Кто? Да вот ваш предшественник.
Охлопков не знал.
– Вы же новый смотритель?
– То есть… в каком смысле?.. Ну да.
И тут человека на той стороне осенило: но, может быть, вас взяли не вместо того, а вместо другого, весьма нелюбезного молодого смотрителя? Кого он имел в виду – Скрябина? или как его… Охлопков почувствовал, что этот полуночник опутывает его.
– Я не знаю, о ком вы говорите и чем я могу помочь.
– Да, да, – вздохнул человек с той стороны, – конечно. Вы, значит, не в курсе. Жаль, что он покинул свой пост, если, конечно, это действительно так и вас взяли не вместо другого.
– Послушайте, – сказал Охлопков, – позвоните утром администрации или даже сюда, билетершам, и вам все растолкуют.
На той стороне замялись.
– Да нет… не так-то просто объяснить.
– Почему? – Охлопкову вдруг этот разговор показался занятным, и ему уже не хотелось, как мгновенье назад, бросить трубку.
– Ну, я вот вам пытаюсь что-то объяснить, а вы ничего не понимаете и вот-вот швырнете трубку.
Охлопков улыбнулся:
– В общем, так.
– Хотя, судя по голосу, вы не бесцеремонный человек. – На той стороне вздохнули. – Можно сказать, что есть вещи, которые не так-то просто объяснить днем. А кто станет тебя слушать ночью? Весьма редкие экземпляры. Каковым и был ваш предшественник.
– А вы что, не знаете его имени? – догадался Охлопков.
– Да. Наше общение было совершенно очищено от всего случайного. Мы обменивались мнениями, мыслями, этого нам было достаточно.
– Разве имя – вещь случайная?
Голос человека на той стороне потеплел.
– Есть, есть такая идея – что не случайная. Как говорится, по Еремке и шапка: кому бобровая, кому соболья, а кому собачий треух. Раньше в ходу были реестры имен, напротив имени – краткая, в два слова, характеристика. Так вот, оттого, что, может, и не случайная вещь имя, иногда лучше и предпочесть безымянность. Это дает определенное чувство свободы, смелость. Хотя надо заметить, что вообще-то заявить, будто имя нечто большее, чем звук, простое обозначение, – это слишком много сказать. Даже: все сказать. Понимаете?
– Не совсем.
– Ну поразмышляйте. Впереди целая ночь. И не одна. Или вы все-таки предпочитаете почивать? Впрочем, не мое дело. Извините. Я-то сова.
Охлопков посоветовал ему еще раз позвонить завтра, и если не ответит предшественник, значит, он действительно уволился. Но вообще-то можно узнать и имя его, и куда он перебрался. Человек с той стороны поблагодарил и ответил, что так и поступит. Впрочем, он рад был поговорить с новым смотрителем. На этом они распрощались. Охлопков потянулся.
Утром этот звонок и весь разговор показался ему более странным. Он припомнил фразу о том, что некоторые вещи трудно объяснимы днем.
День искажает некоторые вещи. Или, наоборот, ночь? Ну, это зависит от того, с какой стороны смотришь.
А что об имени?
Как меня зовут? Что может означать это? А если бы меня звали как-то иначе?.. Например, Сергей или Сева… О, тогда бы я… Легко проживать чужую жизнь. Почему-то все становится тут же понятно: как поступать, что предпочесть, что отринуть. А своя… здесь все сразу осложняется, затуманивается; выясняется, что многое не поддается расшифровке, – да, как будто ты испещрен письменами майя, – кажется, их так и не смогли распутать толкователи… И отлично! Приятно знать, что не все подвластно толкователям. Это воодушевляет.
Итак, как меня зовут? И неужели я поступаю в соответствии с именем?
Геннадий Охлопков и должен сейчас лежать в постели, придя с дежурства, и думать, что, будь у него другое имя, он вел бы себя как-то иначе, – вот не лежал бы, да, если бы его звали, например,
Винсент Ван Гог. Тот вставал чуть свет и бежал в поля, чтобы к вечеру уже закончить космическую картину. Ну, ему было проще, его звали Винсент. И он написал тысячу картин. И даже больше. Или еще имя – Поль. Кстати, можно ведь заняться сравнительным анализом двух имен, то есть судеб двух Полей, даже лучше – их работ. Взять два пейзажа. Например, “Большое дерево” Гогена и “Большую сосну близ
Экса” Сезанна. Каков психический почерк каждого из них?
Охлопков достал пачку репродукций, начал отыскивать нужные, задерживая в руках те, что ему особенно нравились: “Белую ночь”
Мунка, ошеломительно чистую, холодную, словно бы видимую сквозь родниковую воду, “Дождливый день в Париже” Марке, необычайно пластичную вещь, но чем-то беспокоящую, чем-то грозящую, “Пейзаж в
Овере после дождя” Ван Гога, где разнонаправленные борозды полей создают очень обширное и глубокое пространство, пересекаемое слева направо и справа налево конной повозкой и паровозом, за которым тянутся вагоны и тяжелые клубы дыма, “Двор колесника на берегу Сены”
Коро, вещь приглушенную, влажно-свежую, и его же праздничное синенебое и синеоконное “Утро в Венеции” с крылатым неказистым темным львом, вознесенным в небеса колонной и с белыми плавными куполами собора на другой стороне канала, – по набережной идет некто в длиннополой одежде, с сумкой и в красной шапке, словно вестник, почтальон утра; и сомнамбулический Каспар Давид Фридрих, его “Горный пейзаж”. Попутно он отыскал и еще одного Поля – Синьяка, как раз тоже “Сосну”. И, положив перед собой на стол три листка, принялся разглядывать, словно доктор – рентгеновские снимки.
Самой живой ему показалась сосна Сезанна. Хотя дерево Гогена просто бурлило энергией. “Сосна в Сен-Тропезе” Синьяка производила самое эффектное впечатление, но представала музейным неколебимым экспонатом, хотя и была выписана точками, что, казалось бы, должно было давать ощущение песчаной зыбкости. Сосна Сезанна обнимала, обещая многое, но и скрывая немало: за нею, за ее распахнутыми ветвями лежал зовущий мир. Вещь Синьяка в этом смысле была одномерной: ничего, кроме того, что сразу схватывает взгляд. Дерево
Гогена было слишком пряным, бурным, за ним розовел крутой бок горы, и уголок неба был темно-зеленым, – и не неба, скорее, а чащобы лесной; поверхность земли на переднем плане красная, – зритель должен опалить ресницы, сбросить груз своих знаний, предпочтений, чтобы налегке, обновленным отправиться в путешествие: то ли следом за всадником на какой-то подозрительно маленькой лошадке, то ли направо вместе с красноликим пешеходом, – лишь у Гогена в пейзаж были вписаны люди; вокруг простирались безлюдные пространства океана, и человек не искажал, а дополнял пейзаж. Тогда как в многолюдной Европе Сезанн писал абсолютно пустынные уголки, человеческие фигуры ему мешали. Мешали выявить мысль пейзажа? мысль горы? неба? дерева? Кстати, из линий и пятен у него, как ни у кого другого, послушно вылепляются губы, глаза, лбы, – и вот уже вырисовывается холодный женский лик, вот из ветвей глядит одноглазая личина.