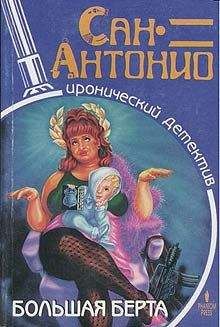Оксана Даровская - Браво Берте
Кириллу ужасно хотелось ее обнять. Она похожа была сейчас на ребенка. Еще в ней было то, что он ценил в женском поле, кроме красоты и ума, превыше всего – естественность и отсутствие пафосного хамства. В его родном университете приходилось как минимум по две отпетые хамки на каждый квадратный метр. Он слушал ее и незаметно разглядывал ее волосы. При свете дня они оказались не просто каштановыми, а отливали темной искрящейся бронзой. «Хорошо, что они у нее настоящие, природные», – думал он. Он терпеть не мог крашеных женских волос. Особое отвращение он испытывал к жутким бороздам другого цвета у корней, когда волосы отрастали, а владелицы волос не успевали подкрашивать их у основания. Именно эти полтора-два отросших сантиметра, контрастирующих с остальной массой, вызывали в нем вместе с чувством брезгливости абсолютное непонимание женских представлений о красоте.
– Мне понравилась Берта, – без всякого перехода сказала вдруг Катя. – Убожество, конечно, там страшное. Все какие-то хромые, косые, кривые, смотрят, как будто у каждого по миллиону украли. А в ней есть что-то такое, гордое, что ли, несломленное. Она, по-моему, абсолютная атеистка.
– А ты? – поинтересовался Кирилл.
– Меня в этом смысле никто не просвещал. Так, обходилась своими силами. Про буддизм даже чуть больше знаю, чем про православие. Если честно, меня эта тема не особо волнует. Мне кажется, в мире, кроме религии, столько интересного.
Глава 6. Начало
За спиной у Берты имелось полно грехов. Она не отрекалась от них, осознавая их тяжесть в полном объеме. Но обсуждать собственные грехи она не стала бы ни с низшими, ни тем паче с высшими церковными чинами. То была исключительно ее персональная ноша. Любые покаяния вслух через посредников – служителей культа были глубоко ей чужды. Кто, кроме самого человека, может стать судьей своим поступкам?
С годами у нее накопилось немало претензий к церкви и ее представителям. Она отказывалась понимать и принимать, что тех, кто из века в век переворачивал людские души, заставлял рыдать, переосмысливать жизнь и выходить просветленными, до недавнего времени было принято, не считая за людей, хоронить за оградами кладбищ. Она не собиралась прощать парижскому архиепископу второй половины XVII века неправедных, под покровом ночи, похорон истинного короля французской драматургии Мольера! Непосредственно Иисус оставался для нее фигурой самоценной, именно поэтому она нередко задавалась вопросами: «Как, когда, при каких обстоятельствах случилось, что идея всеобъемлющей любви в который раз в мировой практике переплавилась в глухое фарисейство? В нудную рутину запретов, диктат нравоучений, механистическое выполнение пустых формальностей, того хуже – лицемерную систему двойных стандартов? Откуда в подавляющем большинстве человеческих особей, – негодовала Берта, – сидит способность все опошлить, вложить в рамки безжизненного норматива, а то и откровенно бессовестного приспособленчества?»
Только искусство, считала она, обладает возможностью и правом очищать, просветлять, и это куда мощнее, чем выстаивание на церковных службах. Ветхозаветные истории с юности по сей день шокировали ее призывами к слепому подчинению карающему Богу Яхве (Иегове), к евангельским сюжетам тоже имелись вопросы – правда, им она симпатизировала больше, – но вживаться в те и другие готова была лишь сквозь призму искусства. Никакие книжные или словесные проповеди, была она уверена, не сравнятся по убедительности с «Гефсиманским садом» Пастернака и «Сретеньем» Бродского.
Именно таким сильнейшим потрясением от искусства стал для нее когда-то канун нового, 1958 года. В ночь с тридцатого на тридцать первое декабря Симочка повезла ее – тогда еще Риту – в Ленинград. Тетка задумала сделать любимой племяннице подарок.
Родная младшая сестра погибшего на войне теткиного мужа Алексея Яковлевича, Зинаида Яковлевна, работала в БДТ костюмершей и раздобыла заветные контрамарки на премьеру «Идиота». Родственницы сговорились держать это событие в строжайшей тайне и посвятить в него Риту-Берту только на входе в театр. Жила Зинуша одна, на улице Халтурина, бывшей Миллионной, в просторной коммунальной комнате с двумя окнами. Встреченные хозяйкой горячими объятиями и поцелуями, гостьи замерли на пороге комнаты перед благоухающей свежим смолистым духом красавицей елкой. Елка была установлена в простенке между окнами, крепкие ее лапы переливались цветной мишурой, искрились гирляндами из стекляруса, были схвачены пингвинами, зайцами, белками, лыжниками на прищепках, в партере утопали в ватном снегу Дед Мороз и Снегурочка из папье-маше, вверху традиционно багровела пластмассовая кремлевская звезда. Зинаида Яковлевна в двери взяла родственниц под руки: «Гриша постарался, сосед. Два захода с санками сделал – себе и мне. У меня бы самой сил не хватило, а очень для вас хотелось». Она велела им располагаться, сама же в срочном порядке отправилась на кухню, где возилась с новогодними пирогами. Симочка, оставив в комнате вещи, последовала за хозяйкой. А Рита-Берта долго не отходила от елки, детально изучая каждую из игрушек, потому как некоторых у них в московской квартире не было. Ее экстатичное стояние у елки периодически нарушало непривычное многоголосье и суетное шастанье соседей на кухню мимо комнаты.
После обеда, убрав со стола посуду, Зинаида Яковлевна торжественно подошла к шкафу, открыла скрипучую зеркальную створку и извлекла на свет ослепительной красоты платье, покачивающееся на деревянных плечиках:
– Вот, Ритуля, мой тебе подарок. Во-первых, к Новому году, а потом ты в этом году кончаешь школу, тебе полагается.
У Риты-Берты перехватило дух. Светло-изумрудный бархат, отрезное по талии, с сильно присобранной юбкой, с длинными рукавами на высоких манжетах, украшенное широким поясом с серебристой пряжкой, а главное, воротник – большой, закругленный, отложной, из тончайшего белоснежного кружева.
– Ну-ка, примерь, Ритуля. – Зинаида Яковлевна расстегнула ряд маленьких перламутровых пуговок по спинке платья, сняв его с плечиков, подала Рите-Берте. – Иди за ширму, мы с Симочкой ждем.
– Пуговицы не могу застегнуть до конца, пока не привыкла, – взволнованно проронила Рита-Берта из-за ширмы.
– Стой там, сейчас застегну. – Зинаида Яковлевна прошла к ней, ловко застегнула верхние пуговицы. – Ну, теперь выходи!
Она выплыла на мысочках из-за ширмы, встала в центре комнаты, и Серафима Федоровна восторженно взялась за сердце:
– Скажи, Зинуша, где наши с тобой осиные талии?!
Зинаида Яковлевна подтолкнула Риту-Берту к зеркалу в шкафу:
– Подойди полюбуйся.
Это была она и вместе с тем не она. Платье сидело безупречно, подчеркивало ее высокую округлую грудь, эффектно выделяло тончайшую талию, юбка чуть прикрывала колени, оставляя на обозрение стройность ног. А воротник! Как же он шел к ее серо-зеленым перламутровым глазам, темно-русым волосам с рыжинкой! В ее жизни не было до сей поры ни одной вещи, которая бы так ее красила.
– Руки у тебя золотые, Зинуша, и безупречный вкус, – цокала языком Серафима Федоровна. – Не зря трудишься в лучшем театре страны.
– Ты вправду считаешь наш театр лучшим?
– Да. С тех пор как два года назад к вам пришел этот носатый диктатор с грузинской кровью, снова считаю лучшим. Заметь, против такой диктатуры мне нечего возразить.
– Я думала, москвичи убеждены, что все лучшее может быть только у них, – засмеялась Зинаида Яковлевна.
Потом тетушки долго наглаживали свои наряды, причесывались, наводили марафет, и Рита-Берта заподозрила, что они готовятся на выход.
– Вы куда-то собираетесь? – удивилась она.
– Да, – подтвердили они. – Пора тебе снова надеть обновку. Там, куда мы идем, твое платье будет очень уместно.
– Куда же мы идем? – удивилась Рита-Берта.
– Терпение, дорогая.
По набережной Фонтанки дошли до набережной Мойки, стали приближаться к театру, куда активно стекались люди. Рита-Берта, издали узрев афишу, внутренне ахнула: «Что ж за день-то особенный!»
Отойдя перед гардеробом в уголок фойе, Серафима Федоровна достала из сумки сверток, вытряхнула на пол две пары туфель: свои и выходные племянницыны.
– Симочка, ты взяла с собой мои парадные туфли!
– А как же! Не в калошах же быть на премьере!
Зал не дышал. Князь Мышкин, не касаясь пола, скользил по сцене, словно имел крылья. И говорил, говорил тихим, прозрачным, совершенно необыкновенным голосом. Когда Настасья Филипповна стала выкидывать эксцентричные фортели, Рита-Берта машинально зажала себе рот ладонью, чтобы не выкрикнуть: «Дура! Зачем ты с ним так? Ты слепая? Не видишь, кто перед тобой?» Ей не было жалко Настасьи Филипповны. Подумаешь, был старый любовник у юной девушки! Эка невидаль! Ее одноклассница Лера, например, тоже встречалась несколько месяцев с пятидесятилетним трудовиком из их школы, потом ему надоела – и ничего, осталась радостная и веселая. Настасья же Филипповна вся изломалась, искривлялась. А избалованная, самовлюбленная Аглая? Никого, кроме себя, не видит и не слышит. Капризные, взбалмошные курицы! Каждая в своем роде. Разве способны они любить бескорыстно? Им же надо, чтобы любили только их, возились только с ними! А вот князь Лев Николаевич! Тихий, робкий, он во сто крат сильнее их всех. Куда Рогожину и Иволгину, с их земными страстишками, против него, хрупкого, больного, но полного духовного величия!