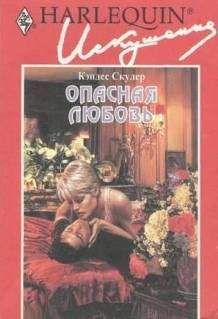Хуан Онетти - Избранное
— Так, — тихо сказал Диас Грей. — Что именно?
— Морфий. Дайте еще и рецепт. Или продайте.
— Так, — повторил он.
— Мы с мужем давно обращались к Кинтеросу.
Спокойно опираясь о стол, как о прилавок магазина, она словно ждала, когда ей продадут пудру или чулки.
— Вредно, не вредно, это все равно, — сказала она.
— Кинтерос не дал вам ко мне письма?
— Он уехал без предупреждения. Сами понимаете. Он о вас говорил.
— А если я скажу, что не могу вам поверить просто так, на слово?
— Ради бога, ради бога! — сказала она, подавляя усмешку, и снова стала высокой, терпеливой, снисходительно-кроткой.
Он подумал, можно ли встать и обнять ее; напомнил себе большую грудь, тонкую талию, над которой проступали ребра, медальон, пожелтевшую фотографию. «Нет, наверное, цена — не эта. Однако мне остается лишь удержать ее, забыв свою гордость, чтобы она почаще приходила сюда».
— Морфий… — сказал он. — Я мог бы вам объяснить, почему я лечу таких больных. Либо сами они хотят вылечиться, либо я хочу, чтобы они вылечились… Ладно. Скажите свою фамилию. И не лгите, можно узнать в отеле. Я ведь местный врач.
— Элена Сала. Эс-а-эл-а. Зачем мне лгать?
— У вас есть муж. Он тоже Сала?
— Его фамилия Лагос.
Диас Грей подумал, разглядывая руку на стекле стола, упорно сжатые косточки пальцев, четыре желвачка, туго обтянутые кожей.
— Десять песо за визит, — наконец сказал он. — Уж не обессудьте. И двадцать — за рецепт. За каждые две ампулы. Колоть я вас не стану.
— Выпишите четыре.
— Хорошо, четыре. Только возьму-ка я по двадцать песо за ампулу. С какой стати я буду вам помогать? Ну как, согласны?
Она ответила не сразу; косточки на стекле не шевелились.
— Двадцать песо ампула, — сказала она без покорности и без протеста.
— Да, двадцать, — сказал Диас Грей, быстро выписал рецепт, вырвал листок из блокнота и протянул ей. — Всего девяносто. Чтобы вы решили, что это невыгодно, и больше не ходили ко мне.
Она подняла листок, прочитала, сунула в карман, из того же кармана вынула бумажку в сто песо и, разжав пальцы, уронила ее на стол.
— Мы тут еще побудем, — сказала она. — Снимем дом, если найдем подходящий. — Диас Грей вынул деньги из кармана брюк и дал ей десять песо. — Да, еще побудем. Если мужу понравится. Потому что я и представить не могу, как жить не в столице. Может, удастся снять дом у реки, прямо с мебелью. Вы часом не знаете? И потом, посмотрите мужа.
— Нет, — сказал Диас Грей, — никакого дома я не знаю. Тут очень хорошо, особенно весной. Приводите мужа. Должно быть, это просто нервы. Перевозбуждение и утомление. Словом, я его посмотрю.
VI
Старая гвардия; недоразумения
Из окна ресторана мы видели людей, возвращавшихся по улице Лавалье из кино и театров, входящих, помаргивая, в кафе, закуривавших, подзывающих такси на жаркой улице кивком блестящей головы. Мы видели входящих в наш зал устало-оживленных женщин и высокомерных, хмурых, неприветливых мужчин.
— Вот мое племя, — сказал Штейн. — Вот материал, который доверили мне, чтобы я строил будущее.
Половина первого, думал я. Штейн еще не напился и не оставит меня, пока не напьется. Надо подождать. Вернуться я не могу, пока она не уснула, иначе услышит, как я открываю дверь, и увидит, как я зажигаю лампу. Когда мы прикончим вино, Штейн предложит пойти в кабаре. Я откажусь, но, если он не отстанет, если упрется, пойду. Он уже поглядывает на женщин влажными и наглыми глазами.
Штейн откинулся назад, спинка стула касалась стены. Пиджак он расстегнул, улыбался, качал головой, глядел на женщин. Свет резко светил на полный бокал, который он прикрыл ладонью, на его улыбку, на загоревшийся взор и впитывался, как вода, белой шелковой рубахой.
— Не аскетизм это, не верю, — говорил Штейн. — Это лицемерие. А может, порочное извращение гордости. Словом, любая сложность или пакость. Разве ты не заплатил бы сколько угодно, чтобы переспать вон с той, в белой шляпке? Я на них только смотрю, но смотрю, не притворяюсь. Ну, для меня, поверни свою печальную морду, погляди на них!
А может, без четверти час, думал я. Не хочется приходить, когда она не спит или только что заснула. Конечно, я могу, не страдая, тронуть ее правой рукой… могу убедить, что ничего не изменилось, а иногда — и сам поверить… могу смошенничать достойно, изменив ей с нею же, прежней. Могу, вот этой рукой, которой зажигаю сигарету. Но не могу смотреть на ее губы и знать, что она глядит в стену, или в потолок, или на свои руки пустыми глазами. Теперь она ухаживает за руками отчаянно, как за детьми. Я же не дурак, я знаю, что могу, а что нет. Например, могу ее не слушать, не вслушиваться; но не могу вынести, как жалобно дрожит ее голос. Если бы она умерла, было бы хуже, но проще; тогда она провела бы со мной не больше суток, чтобы я понял в тишине: умерла — и запретил себе забывать. Она повторяла бы это в моей памяти, но ведь не каждый день и не сама; она не напоминала бы так нудно и непрестанно о нашей общей беде.
— Что-то с тобой такое, — сказал Штейн. — Я сразу понял, что ты грустишь, и грусть эта, заметь, нечистая. Она проходит на людях. Это из-за Гертруды?
— В том числе из-за нее. Давай про это не говорить. Закажи лучше полбутылки.
— Пожалуйста, полбутылки, — сказал Штейн официанту. — Вчера я думал о полутора годах, которые мы с тобой простукали в Монтевидео. Ракель тебе пишет?
— Я Монтевидео не вспоминаю, — сказал я и выпил немного. — Писем нет уже давно. Гертруда говорила, что Ракель выходит замуж за какого-то Альсидеса.
— Ах, хороша была! — заметил Штейн, пытаясь умилиться. — Главная из Елевсинских мистерий посвящена тому, что произошло между неким аскетом и его молоденькой свойственницей. Когда мне худо, я думаю, что мы так и умрем, а ее не разгадаем.
— Да, умрем.
— Вот и выходит, что рыцарственная сдержанность — палка о двух концах. Вообразить можно разное. Например, вообразим-ка, что сделал бы я, если бы мне, а не ханже, подвалил такой случай.
— Вообразим, — согласился я. — Но ведь ничего не было. Может, я не совсем скромно шутил, сам того не понимая. Когда я понял, что происходит, я уехал в Буэнос-Айрес.
— И не объяснился с ней? Не воспользовался своим героическим отказом?
— Может быть, я начал в нее влюбляться, кто знает. Но я уехал, и все. Теперь она выходит замуж. Сперва она обиделась, старалась меня ненавидеть. Потом стала писать. Гертруда читает ее письма.
— Прекрасно, прекрасно. И все-таки, как говорится, было что-то такое, этакое. Просто сейчас ты в грустях, тебе говорить не хочется. Теперь ей уже лет восемнадцать-девятнадцать. А сонет Арвера[11] вы разыгрывали пять лет назад. Неплохо для аскета… Выпьем еще полбутылочки?
Я не хочу смотреть, как Гертруда лежит на спине и неотступно следит за чашами весов. На одной из них — боль, которая может прийти в любую минуту, сообщая о болезни оттуда, из легких; на другой — надежда: она поправится, оживет, снова будет участвовать в жизни, что-то обретать и жалеть уже не себя. Оба мы обнаружили, что любая тема может привести нас к левой груди, и ужаснулись, хотя от повторения страх наш стал поменьше. Однако мы боимся говорить, ибо все на свете напоминает о ее несчастье.
— Чем меня пожалеть, — говорил Штейн, — эти вежливые гады притворяются, что они мне завидуют. Ты тоже гад, но другой породы: и не жалеешь меня, и не завидуешь. Знал бы кто, что я терплю, каких мук мне это стоит. Давай выпьем за мои муки. Понимаешь, она замужем, двое детей, муж что-то такое делает в спортивном клубе.
А жду я зря, думал я, проснуться она может когда угодно, и буду улыбаться, шутить, чтобы и она притворялась счастливой, все счастливее и счастливее. Буду ходить по комнате, громко говорить, рассовывать по углам утро, доверие, радость, бессмертие-другое. Буду смеяться точно так же, как тогда, в Монтевидео, пять лет назад, когда мы стояли как раз на углу Меданос и 18 Июля и нас тянуло друг к другу. Поглажу ей щеку одним пальцем, как там, у выхода из школы, — кто мне помешает? Сумею убедить ее, что случай не уничтожает жизни, что в нем даже есть смысл. И, может быть, она привстанет на постели, попросит сигарету, уверенно и медленно выпустит дым, бросая мне вызов, как раньше, и заморгает, и пробормочет какую-нибудь чушь, чтобы я стал возражать.
— А я улыбаюсь, киваю, — продолжал Штейн, — и держу ухо востро, чтобы она не догадалась, что я думаю о последних семи поколениях ее предков. Сделай скидку на перевод, но говорила она так: «Представь, повела я его на прививку, для школы надо, а там жуткая очередь. Тут идет доктор, смотрит на меня, и я на него, не так себе, а чтобы поскорее пройти, а он идет назад, и все смотрит, а у меня рука завязана, помнишь, я связку растянула, из-за гамака, когда мы ездили в Тигре, а он спрашивает, что это с вами. А я говорю, была в Тигре, каждое воскресенье ездим на остров, сами знаете, фабрика и семья, качаю в гамаке подругу одну, Луису, и вдруг, представляете, жуткая боль, как будто руку сломала. Это я растянула связки, и меня очень туго забинтовали, а он говорит: я хотел бы вас посмотреть, проходите без очереди. И делает прививку, и отпускает шуточки, и хочет со мной встретиться, но справку я получила, сестра дала, и я говорю, еще чего, и мы ушли».