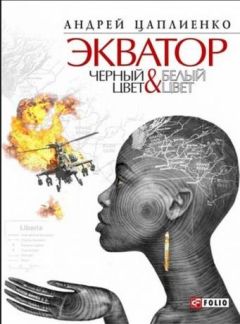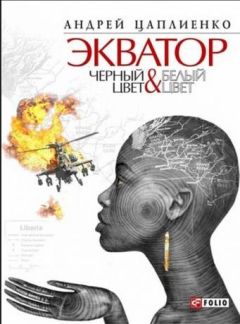Амели Нотомб - Биография голода
Десять девчонок тут же прекратили драться и с обожанием уставились на меня. Труднее всего было не засмеяться.
– Забудьте то, что было вчера, – сказала я. – Теперь я, как раньше, буду ходить за руку только с Мари и Розлиной.
Восемь пар глаз бешено засверкали. Поднялся ропот:
– Несправедливо! Вчера ты ходила с Коринной! А теперь должна со мной!
– И со мной!
– И со мной!
– Да не нужны мне ваши руки! Я хочу ходить только с Мари и Розлиной.
Обе любимицы смотрели на меня с ужасом и безмолвно умоляли переменить решение, я поняла, что им это может выйти боком. Остальные девочки снова подняли хай.
– Ну, раз так, – сдалась я, – составим расписание.
Я расчертила большой лист бумаги и расписала очередность пар на несколько месяцев вперед, вписывая в клеточки имена, как мне заблагорассудится:
– Понедельник, двенадцатое число – Патрисия. Вторник, тринадцатое – Розлина. Среда, четырнадцатое…
И так далее. Имена фавориток встречались гораздо чаще других – имела же я право выделить кого хочу. Самое странное, что мой гарем безропотно подчинился, и с тех пор все каждый день сверялись с драгоценным документом. Заглянет иной раз какая-нибудь девочка в расписание и вздохнет:
– Моя очередь в четверг, двадцать второго.
Мальчишки смотрели на них с презрением:
– Ну и тупые эти девчонки!
Я была совершенно с ними согласна. Хоть это поклонение моей персоне мне льстило, но я его не одобряла. Другое дело, если бы меня полюбили за что-нибудь стоящее: за ловкость во владении оружием, за умение делать шпагат или сисон, за снежный шербет или за тонкость чувств.
Но девчонки обожали меня за то, что учителя пышно именовали интеллектом и что я ни в грош не ставила. За то, что я лучшая ученица. Мне было за них стыдно.
И все-таки я замирала от счастья, когда сжимала руку Мари или Розлины. Чем я была для них: игрушкой? частью антуража? развлечением? Или они действительно привязались ко мне? Не знаю. Зато знаю, что значили для меня они. В том, что я получала от них, мне прежде столько раз отказывали, что я хорошо знала этому цену.
Их чувства были плодом ненавистной мне системы, действовавшей во французском лицее: на плохих учеников здесь показывали пальцем, а зубрил ставили в пример. Я выбирала тех, кем восхищалась: девочек с красивыми глазами, заставляющими забыть обо всем на свете, и маленькими руками, способными увести в таинственные дали, тех, от кого можно потерять голову; для них же главным оказался мой успех.
Почти та же картина была дома. Я любила настоящей любовью мою немыслимо красивую маму, она меня, конечно, тоже любила, но я чувствовала, что это была не та любовь. Мама гордилась этим моим дурацким интеллектом, хвалила меня за так называемые достижения, но какое отношение все это имело ко мне самой? По-моему, никакого. Я – это то, о чем я мечтала, те романтические планы, которые строила бессонными ночами, когда меня мучила астма, и в которых я пыталась спастись от удушья. Школьный дневник никак не удостоверял мою личность.
Я любила дивную Инге, она меня, конечно, тоже, но опять-таки – меня ли? Ей нравилась смешная девчонка, которая писала ей стихи и изливала свои пламенные чувства. Много ли было от меня настоящей в этих бурных излияниях? Вряд ли.
Я любила мою прекрасную Жюльетту, и она – о чудо! – любила меня так же, не за какие-то заслуги, а за то, что я есть, и такой, какая есть; она спала рядом со мной и любила меня, когда я кашляла по ночам, – есть, есть все-таки на земле место для настоящей любви.
С мужчинами все было гораздо проще. Любовь к ним и их любовь ко мне была простой данностью. Я любила отца, и он любил меня. Никаких сложностей я тут не находила, да, по правде говоря, и не искала. Просто не думала об этом.
И мне казалось дикостью стараться завоевать любовь мальчишки. Сражаться можно за боевое знамя или за Святой Грааль, мальчишка – ни то и ни другое. Я всячески внушала это Инге, но она была глуха к моим увещеваниям.
В то же время я признавала за мальчишками несомненные достоинства: они отлично борются, лучше девчонок играют в мяч, не вредничают и не ноют во время боя и правильно относятся ко мне – как к противнику.
Однажды я убила врага одной силой мысли. Всю ночь желала смерти этому мальчишке из нашего класса, а утром заплаканная учительница сообщила, что он умер.
Кому под силу великое, тот справится и с малым: раз я убила человека, то смогу убить и слова. Самых ненавистных было три: «страдать», «одежда» и «купать» (особенно в возвратной форме). Меня раздражал не смысл этих слов – я ничего не имела против их синонимов, – а их звучание.
Для начала я целую ночь призывала на них смерть, надеясь одержать победу так же легко, как в случае с одноклассником. Но увы: на следующий день они опять оскорбляли мой слух.
Пришлось прибегнуть к силе закона. Я издала и дома, и в лицее указы со строжайшим запретом на употребление трех слов. На меня посмотрели с удивлением и продолжали страдать, носить одежду и купаться.
Тогда я прибегла к педагогическому воздействию и стала убеждать окружающих, что можно с таким же успехом мучиться, принимать ванну и носить платье. Меня недоуменно слушали, но лексику не меняли.
Я разъярилась. Злосчастные слова были в самом деле невыносимы. Жалостливый глагол «страдать» заставлял меня подпрыгивать до потолка. Выспренное слово «одежда», с его архаическим суффиксом, будило во мне зверя. А больше всего выводило из себя сладенькое «купать себя», которое, видите ли, бралось обозначать самое приятное, что только дано делать человеку в этой жизни.
Если кто-нибудь при мне употреблял проклятые слова, меня трясло. Люди пожимали плечами и упорствовали в своих лингвистических мерзостях. Я доходила до бешенства.
Только Жюльетта стала на мою сторону.
– Это ужасные слова, – сказала она. – Лично я их больше никогда не произнесу.
Хоть кто-то любил меня на этом свете.
На рождественские каникулы старшего брата отпустили из бельгийского интерната, и он на две недели приехал к нам в Нью-Йорк. Узнав о моих вето, он тут же принялся повторять запретные слова по десять раз в минуту. Ему страшно нравилось смотреть, как я злюсь, он говорил, что я похожа на героиню «Экзорциста».
Две недели прошло, и его опять сослали на каторгу к иезуитам.
«Вот что значит нарушать мои законы», – думала я, провожая глазами такси, увозившее его в аэропорт.
В общем, как оказалось, с людьми сладить легче, чем со словами. Хорошенько сосредоточившись, я могла за одну ночь уничтожить человека. Слова же не поддавались.
На мою беду, три ненавистных слова были очень употребительными. Не проходило и дня, чтобы они не впивались в меня, как шальные пули.
Будь эта троица другой, ну, скажем: «саркофаг», «цикута» и «отнюдь», – мне бы жилось гораздо легче.
Однажды маме позвонил кто-то из лицейского начальства:
– У вашей дочери непомерно высокое умственное развитие.
– Я знаю, – невозмутимо ответила мама.
– Вы не думаете, что она от этого страдает?
– Моя дочь никогда не страдает, – захохотала мама и повесила трубку.
Бедный педагог, вероятно, подумал, что в этой семейке все ненормальные.
Между тем мама была права. Если не считать аллергии на три слова и приступов астмы, я никогда не страдала. А необыкновенные умственные способности, о которых все столько шумели, служили прекрасным средством делать жизнь еще приятнее: я создавала целые миры, которые хотя и не могли насытить вечный голод, но тешили его лакомствами.
На лето родители записали нас троих – брата, сестру и меня – в летний лагерь неподалеку от нашего домика в Кент-Клиффсе. Им хотелось погрузить нас в стопроцентно американскую среду, чтобы мы лучше освоили язык.
Папа отвозил нас туда в девять утра и забирал в шесть вечера. Каждый день начинался с идиотского обряда: чествования флага.
Все дети и вожатые выстраивались на лужайке вокруг мачты, на которую поднимали американский флаг. И сотня глоток молитвенно возглашала:
– To the flag of the United States of America, one nation, one…[9]
Дальше кишащая заглавными буквами (они выделялись и на слух) патриотическая белиберда переходила в неразборчивый восторженный рев. Мы с Жюльеттой и Андре возмущались: мы же не в Нью-Йорке, а в американском лесу, вокруг все настоящее, и вдруг такая чушь – просто сдохнуть со смеху!
Мы тайком скандировали другие слова:
– То the corn-flakes of the United States of America, one ketchup, one…[10]
Вожатые окрестили нас болгарами – так они расслышали, когда мы знакомились. Впрочем, они отнеслись к нам очень хорошо и говорили, что рады видеть в своем лагере детей из восточного мира:
– Вам повезло – вы узнаете, что такое свободная страна!