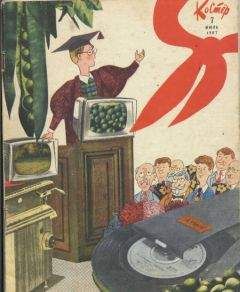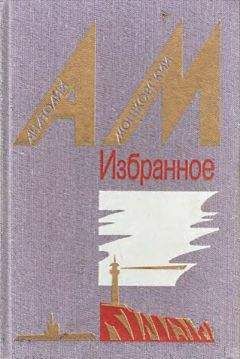Туве Янссон - Дочь скульптора
Он был так далеко от меня, что мне пришлось кричать, иначе бы он меня не услышал, и я прокричала все, что было в моих силах. Но он лишь ушел, а она осталась и глядела на меня, а я глядела на нее. Я смотрела и смотрела на нее, пока не разглядела ее всю по кусочкам и подумала: «Ты огромная и костлявая, как лошадь, и тебя никто не сможет найти и вытащить из травы и тебе не спрятаться, потому что тебя все время со всех сторон видно! И никого тебе не удивить и не обрадовать. Ты совершенно напрасно разрушила нашу игру, потому что все равно сама играть не можешь. О, какая беда, какая беда! Никто не захочет получать твои подарки. Он не захочет их! Ты — ничейный сюрприз, ты ничего не понимаешь, потому что ты не художница»!
Я подошла ближе и сокрушила ее самым ужасным образом, заорав:
— Любительница! Ты — любительница! Ты — профан! Ты — не настоящая!
Она попятилась назад, и лицо ее сморщилось! Я не посмела дальше смотреть на нее, потому что жуткий позор видеть, как взрослый человек плачет. Так что я смотрела в землю и долго ждала. Я услышала, как она отправилась восвояси. Когда я подняла глаза, ее уже не было! Иеремия сидел на мысу и выламывал камень. Тогда я вернулась обратно к сараю лоцмана и взяла свой подарок. Это был очень красивый скелет, совершенно белый скелет птицы. Мама дала мне коробочку, которая была как раз впору, я положила в нее скелет и взяла его с собой в город.
Так редко находишь птичий скелет настоящего, белого как мел цвета!
ТЕАТР
Никому, кроме Фанни, не разрешали топить баньку по субботам. Это — единственная работа, которая ей нравилась. Целый день вышагивала она взад-вперед по вершине холма на своих худых ножках-палочках, таких же белых, как и ее волосы, и носила дрова очень медленно и всего несколько поленец зараз. По субботам Фанни была самой главной во всем заливе Вик, и потому напевала что-то однообразно и пронзительно себе под нос.
Затем баньку снесли. Остались под дождем лишь печь да полок из баньки, да дверной косяк. Лето кончилось, и мама уехала в город. Папа вращал свой шкив, а я разгуливала под дождем. Дождь все лил и лил. Луг, бурый и унылый, пахнул гнилью, и бревна от баньки валялись как попало повсюду, потому что муравьи сожрали их изнутри до основания, и хранить их было незачем.
Когда снова настала суббота, Фанни принесла дрова и положила их в печь. Она стояла и смотрела на полок баньки и на пустой проем двери и что-то бормотала себе под нос. Ее морщинистое лицо было абсолютно пустым, и глаза тоже пустыми. Я видела, что дождь растекался, словно ручейки, по ее морщинам. Она убирала увядшую листву с полка и все время что-то бормотала. Потом она ждала, пока упадет, кружась, очередной листок, и тоже убирала его. В конце концов она уселась на полок рядом с кошкой. Казалось, они сидят на сцене театра.
Я пошла на кухню, легла на дровяной ларь и слушала стук дождя по крыше, пока не заснула. Когда я проснулась, дождь прекратился. Я взяла большую красную столовую скатерть и спустилась вниз к баньке. Папа суетился у Песчаной шхеры. Фанни по-прежнему сидела на полке, но кошка убралась восвояси.
Я влезла на ведро и набросила столовую скатерть на дверной косяк, так что она свисала почти до земли. За пределами дома скатерть казалась еще более красной.
— Это занавес, — объяснила я.
Фанни что-то прокудахтала, но не выговорила ни слова.
Я сходила за гонгом и повесила его на гвозде рядом с занавесом. Затем я вынесла из дома все фонари, лампы и подсвечники и расставила их вокруг сцены. Фанни очень внимательно следила за тем, что я делала. Повсюду капало с деревьев, но дождя не было. Тучи стали такими темными, что наступили сумерки.
Когда все было готово, я переоделась принцессой Флоринной. Я нацепила на себя мамину розовую нижнюю юбку и кошкин воскресный бантик и обвязала живот зеленым шелковым галстуком.
Вернувшись, я увидела, что Фанни собрала множество яблок и разложила их кольцом вокруг театра. Они были такими золотистыми, что земля казалась по контрасту почти черной. На небо выплыла еще более темная туча, и я зажгла свечи. Трудно было заставить гореть лампы, но в конце концов и они зажглись. Фонари не хотели гореть вообще.
Кошка прыгала рядом с Фанни, и я дала каждой из них свою театральную программку, а одну положила на папино место.
Затем я встала за занавесом и ударила в гонг. Я подняла занавес и вышла на сцену. Сначала я поклонилась Фанни, потом кошке, и они принялись очень внимательно рассматривать меня.
Я воскликнула:
— Ах! Моя чудесная синяя птица! Лети ко мне! Я ломала руки и бегала туда-сюда, потому что сидела взаперти в башне и ждала принца Амундуса.
Затем я превратилась в Олоферна[23], надула большой живот и пробормотала:
— Неужто это говорит она, оса этакая! Я не я, если не проучу ее.
Снова полил дождь. У Хэльстена появился бегущий домой папа. За Песчаной шхерой лежала в небе узкая золотая полоска. Все свечи погасли под дождем, но лампы продолжали гореть.
Я быстро превратилась в злую королеву и воскликнула:
— Бессовестная! Что? Ты смеешь показаться здесь, на балу, в таком виде? Прочь! Я пылаю от ярости! Вся моя кровь кипит!
Я тут же стала Флоринной и кротко отвечала:
— Слушаю повеление Вашей милости!
Дождь лил все сильнее и сильнее. Кошка начала умываться. Тогда я вдруг вспомнила, как заколдовали принца Амундуса. Кошка Сюсис, черная и ужасная, заползла за печь, а я произнесла:
— Аригида, ригида игида гида! Мирахо! Ира-хо! Ахо! Амундус! Мундус! Индус! Ндус! Дус! С!
Кошка распахнула печную дверцу и зашипела. Тогда Фанни поднялась и начала топать ногами и кричать:
— Аи, аи, аи! Амундус сказал:
— Отпусти меня, отпусти меня, жестокая ты женщина!
А королева спросила:
— Ты хочешь предать Флоринну?
— Аи! Аи! Аи! — кричала Фанни.
На сцене начинают летать совы и семенить старички домовые. Я снова стала Флоринной. Но не успела я вымолвить слово, как Фанни съехала с полка, затопала вокруг сцены и захлопала в ладоши, продолжая кричать свое «Аи! Аи! Аи!»!
— Уходи! — сердито сказала я. — Пьеса еще не окончена. Не надо аплодировать сейчас. Но Фанни меня не слушала.
Она присела на корточки перед печью и стала греть руки. Весь дым выходил через отдушину, так как никакой трубы ведь не было, а печь наполовину сгнила. Фанни продолжала топать ногами и петь свою великую дождевую песню.
— Ослица! — закричала я. — Ты же — публика.
Папа шел лугом. Он остановился и спросил:
— Ну-ка, чем вы тут занимаетесь? Он был крайне удивлен!
— Я играю в театр! — закричала я. — И для тебя тоже! А Фанни все испортила!
Лил дождь, и все лампы погасли. Я сидела и плакала что есть сил.
— Ну-ну! — успокаивал меня папа. — Не принимай это так близко к сердцу.
Он не знал, что сказать, и через некоторое время сообщил:
— Я поймал двухкилограммовую…
— Аи! Аи! Аи! — закричала Фанни.
Я вошла первой в дом и все время плакала, но теперь больше для того, чтобы произвести впечатление. Папа вышел следом за мной и зажег свечу, так как все лампы были в театре. Он показал мне щуку.
— Она красивая! — сказала я, потому что всегда следует высказать свое мнение, если кто-то поймал рыбу.
А потом плакать дальше было уже слишком поздно. Я снова оделась как обычно и мы вместе с папой стали пить чай.
Все время было слышно, как Фанни била и била в гонг и пела свою дождевую песнь. Весь луг был затянут дымовой завесой. Но вот кошка устала и вошла в дом.
— Это Сюсис, — мимоходом рассказала я. — Ее заколдовали и превратили в кошку.
— Что-что? — спросил папа.
— Ерунда, ничего, — ответила я, потому что это было не так уж и важно.
Назавтра Фанни была в очень хорошем настроении.
Дверь баньки рухнула, и занавес лежал в траве. Мы расстелили его на столе веранды и оставили там сохнуть до следующего лета.
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ФРУ
Папа любит всех животных на свете, потому что они ему не противоречат. Но больше всего ему нравятся те, что лохматые. И они тоже любят его, потому как знают: им разрешат делать все, что они захотят.
С фру все иначе.
Если они — натурщицы, с которых лепят скульптуры, они становятся женщинами, но пока они фру — это трудно. Они не могут даже позировать, и они слишком много болтают. Мама, естественно, никакая не фру и никогда ею не была.
Однажды в сумерках, когда папа стоял на холме, к нему прямо в объятия влетела летучая мышь. Папа стоял абсолютно неподвижно, и тогда она заползла ему под пиджак и, повиснув там головой вниз, заснула. Папа не шевелился. Мы принесли ему обед, и он ел очень осторожно. Никто не посмел произнести ни слова. Потом мы унесли тарелки, а папа остался стоять на холме, пока не стемнело. Тогда летучая мышь ненадолго вылетела из-под пиджака, а потом снова вернулась к папе.