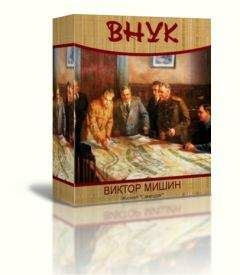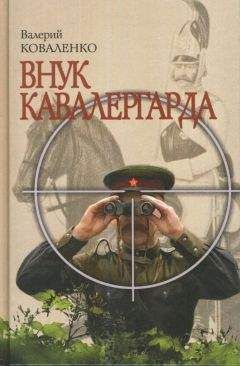Виктор Некрасов - По обе стороны Стены
Прабабушки? Луиза и Валерия Францевны Флориани. Обе итальянки. Из Венеции. Каким ветром занесло их в Россию? Обе красивые, в черных кружевах — ну и Бог с ними… И еще много, много было в альбомах разных господ в стоячих воротничках и дам в турнюрах и всяческих наколках. Альбомы показывались друзьям, те с интересом расспрашивали кто да кто, мне же это всё было, как теперь говорят, «до лампочки».
Пробел по части родословной заполнил в какой-го степени всё тот же дядя Коля. Сообщил даже, что рол Мотовиловых ведет свое начало от каких-то Кобыл, от которых другой ветвью пошли и Романовы.
(Между прочим, прочитав записные книжки Анны Ахматовой — издание библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, — я с гордостью обнаружил, что мы находимся с ней в некоем дальнем родстве. Ее бабушка по материнской линии была Мотовиловой, сестрой отца Николая Мотовилова, того самого, в халате, бородатого, скучного.)
С дядей Колей я уже раньше встречался. Он специально приезжал в Париж, когда я был там в 1962 юлу. Пригласил даже в ресторан, датский, на Елисейских полях («очень неплохо кормят и недорого»), и мы распили с ним там замороженную в куске льда бутылочку водки.
В прошлом эсер. Левый. Принимал участие в московском восстании — специально ездил из Швейцарии. Вернувшись невредимым назад, на революцию, насколько я понял, наплевал и занялся геологией. Впрочем, кажется, занялся ею еще до революции… Увидел Монблан — влюбился в него, и стал Монблан с тех пор делом его жизни. Сколько я себя помню, он все составлял его карту. Успел ли закончить до своей смерти, так и не знаю…
И вот в один прекрасный сентябрьский день 1974 года мы с женой ввалились к нему в «холостяцкую» квартиру со всеми своими киевскими чемоданами. Третий наш спутник, мохнатая, глаз не видно, Джулька летела в это время в Париж, с друзьями, встретившими нас в Цюрихе. Последняя дядина телеграмма в Киев была категорична — «собака абсолютно исключается точка».
Сам он — волосы до плеч, глаза-колючки, брови почище брежневских — оказался добрым, подвижным и весьма словоохотливым — чуть-чуть не сказал «стариком», — нет, не годится, скажем лучше профессором. А поговорить не прочь был… За свои 93 года кое-что да повидал.
Беседы наши — в основном на кухне — проходили не всегда мирно. Монблан Монбланом, но эсеровский, бунтарский дух в нем не выветрился — за чашкой кофе с подсушенным хлебом он весьма темпераментно развивал свои политические идеи.
В основном поносил Америку. И такая она, и сякая, и погода стала неустойчива опять-таки из-за них — авионы (!) тоже они придумали, да-да, не смейся, слишком много всего сейчас в воздухе…
Как ни странно, но к Советскому Союзу, несмотря на свое эсерство, относился весьма терпимо. Более того, хвалил (война, война!) — и тут-то начинались схватки боевые…
— Ну, как ты не понимаешь, Вика, что ваша страна…
— Что наша страна?
— Что, что? Из отсталой и полуграмотной…
— Стала передовой и грамотной?
— Да, грамотной!
— И передовой?
— Ну, не во всех областях, но в некоторых…
— Космических? Сам говорил, что всё в воздухе смешалось…
— Ну, говорил, говорил… Но я не о космосе, я о культуре…
Тут я начинал хохотать.
— Ну чего, что ты хохочешь? Ни в какой стране тиражи книг не доходят до таких размеров, как в вашей.
— Каких книг? Брежневских докладов?
— Не только брежневских. Недавно я вот в вашей «Литературной газете» читал, там приводились цифры тиражей классики.
— А «Правду» ты не читаешь, дядя Коля?
Дядя начинал кипятиться, краснеть.
— Брось этот дурацкий тон. Поверь мне, не будь у вас в стране КГБ…
Я не выдерживал.
— Дядя Коля, дорогой мой, жаль, что меня из партии исключили, а то дал бы тебе рекомендацию.
Тут он начинал топать ногами.
— Дурак! Дурак! Дурак!
Всё в конце концов кончалось мирно, мы допивали свой кофе и отправлялись куда-нибудь на прогулку. Но не поддразнивать милого моего эсера я не мог — покупал свою любимую «Правду» в соседнем киоске и по вечерам, развернув, пытался читать вслух.
— Нет, нет, этого мне не надо. Газеты ваши я не люблю. А вот «Новый мир»…
— А где он? А? — не выдерживал я, и начиналась новая баталия.
Совсем недавно я опять вспомнил дядю Колю, слушая по телевидению беседу главного редактора «Правды» с итальянскими журналистами.
«Правда» — моя слабость (все надо мной смеются), поэтому пройти мимо этого эпизода никак не могу.
Дело было в Милане. А беседа в Москве. Началось всё с того, что показали, как Виктор Григорьевич Афанасьев выходит из своего дома («квартира 55 кв. метров» — сообщил комментатор), сел в длинную машину («не собственная, редакционная») и оказался, наконец, в собственном кабинете. Но не за столом, где он привык чувствовать себя хозяином, а почему-то на вращающемся кресле посреди кабинета.
Бедняжка, даже мне его стало жалко. Под обстрелом прожекторов, кинокамер и трех журналистов он так беспомощно крутился на своем кресле то туда, то сюда, и ноги в светлых, некрасивых туфлях носками внутрь, и локти прижаты, и глаза бегают, и улыбка робкая — как на угольях. А бородатые, элегантные итальянцы, нога за ногу, раскинулись в креслах, задают вопросы.
Скажу прямо — не те вопросы. Слишком общие, слишком привычные. Почему нет свободы, почему евреев туго выпускаете, ну и т. д., в том же духе… На них и ответить прожженному журналисту не так уж трудно. Александр Борисович Чаковский, например, не так давно в такой же беседе с парижскими журналистами на первый вопрос не так уж ловко, не так уж тонко, даже не умно, но все-таки как-то ответил. Растягивая свой ответ как можно дольше, не переставая сиять неплохими вставными зубами, он сравнивал буржуазную свободу со свободой подыматься на верхушку Эйфелевой башни, когда не работают лифты… Ответил и победоносно улыбнулся — съели? Беседа, правда, кончилась печально. Подводя итоги, один из журналистов, кажется, редактор журнала «Point», развел руками и грустно, а не торжествующе, как А. Б., улыбнулся и сказал: «Диалог, увы, не получился. Вступать с вами в спор, как видно, не имеет никакого смысла. Что ж, остается только торговать…»
Итальянские мои журналисты, в общем-то, тоже оказались не на высоте. Виктор Григорьевич под конец даже немного воспрял духом. Городил чепуху — любимая народном газета, самая деликатная из всех (да-да, так и сказал!), никого никогда не обижает, передовицы пишутся лучшими журналистами страны — но, в общем, как-то все-таки выкрутился и под конец, как положено, поблагодарил итальянскую прессу и телевидение за внимание и, облегченно вздохнув, уставился куда-то в одну точку, поверх голов своих гостей.
Выкрутился! А можно было бы и пригвоздить. Меня не пригласили, я б уж справился. (На следующий день в миланской «Il Giornale» я попытался дело это как-то исправить.) Вопросы надо задавать не общие, а конкретные, ответу не поддающиеся. Новой конституцией и вмешательством во внутренние дела суверенного государства не отделаешься. Почему врете? Почему зверский террористический акт палестинцев, стоивший 37 жизней и 57 раненых, преподносите как бой между патриотами и регулярной израильской армией, в результате которого сгорел автобус? Почему ни слова о том, как Корвалан оказался на свободе? Почему Буковский — поджигатель войны? («Вчера президент Картер принял в Белом доме поджигателя войны, уголовного преступника Буковского» — «Правда».) Кто и по чьему приказу убил двух пассажиров южнокорейского самолета, «нарушившего советское воздушное пространство»? Почему вы так деликатно все эти довольно существенные вопросы обходите? Почему обманываете своего читателя? За это он, думаете, вас и любит, что не тревожите его «дешевыми сенсациями» и радуете передовицами, написанными лучшими журналистами страны? Как на всё это отвечать, крутясь на своем стульчике?
Эх, зря не пригласили меня итальянцы. Наклеил бы я бородку, надел бы темные очки, и заерзал бы у меня мой тезка, как карась на сковородке…
Ну, вот и отвел душу…
Вернемся же в Лозанну.
Итак, дядя Коля делал карту Монблана. Взбирался на него (может, и не до самой вершины), спускался вниз, ездил в Париж к своему топографу, опять взбирался, и опять спускался, и всё сокрушался, что я не сопутствую ему в этих прогулках (хватит с меня Эльбруса — умный гору обойдет!). Но, кроме того, был он великим специалистом по туннелям, ледникам и плотинам, за что Франция наградила его «Почетным Легионом» — по-моему, за туннель под Монбланом. Как-то я даже попросил его надеть этот орден и вместе снялись с ним на балконе.
В мае прошлого года дядя Коля умер. В возрасте 96 лет. В последний раз я его видел в больнице, незадолго до смерти. («И чего это они меня сюда заперли. Вечно доктора что-нибудь придумают».) Такой же живой, но несколько менее подвижный, сидел в пижамке за столиком, перебирал какие-то книги. Кажется, уже больше перебирал, чем читал. На прощание сказал, что у него много еще есть о чем со мной поговорить. Увы, не вышло…