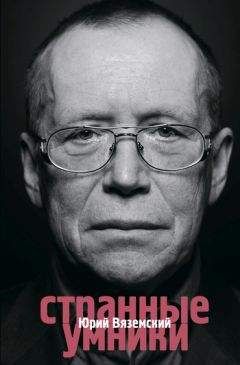Александр Проханов - Среди пуль
– Я вернулся из Парижа в Москву! Мне абсолютно ясно, здесь, в России, не в тухлой Европе, а в Москве, назревает возможность долгожданного национального взрыва! Энергия оскорбленной нации рванет взрывом, разнесет в клочья систему! Россия – это зияющая брешь в мировом порядке. Из этой пробоины величиной в шестую часть света в мир ворвется хаос! Благословенный русский хаос! Я владею способами управления хаосом! Предлагаю вам этот метод!
Белосельцев воспринимал его как произведение искусства. Загримированный под матроса актер не был политиком. Но вносил в политику дымный мерцающий конус лучей, в котором бурлила, кипела плазма разрушения, проедавшая все жесткие конструкции и формы. Если ее сфокусировать и направить, эта плазма становилась сверхмощным лучом, способным разрушить систему. Еще недавно этот лазер, попавший в руки врагов, жег и крушил одряхлевшие двутавры державы. Теперь появлялась возможность развернуть его в сторону противника, сжечь его. Человек в бушлате с черным перстнем на белой руке владел боевым искусством. И задачей политиков было найти ему точное место, встроить его в ряды оппозиции.
– Когда я воевал в Боснии под Сараевом, я ходил в атаку! Знаю, что такое очистительный восторг атаки! Пограничная черта в душе, за которой – ослепительное «ничто»! Зеленая гора, луч солнца сквозь дубы, прямо тебе в глаза, ты бежишь на гору и знаешь: сейчас ты превратишься в ослепительное «ничто»!.. Осенью Москва покроется баррикадами! Я приведу на эти баррикады десять тысяч панков. Они под музыку, не обращая внимания на ваши хоругви, на дубины и автоматы ОМОНа, будут отстаивать свое ослепительное «ничто»!
А у Белосельцева в который уж раз – повторение ошеломляющего чувства беспомощности. Этот артистический, владеющий словом и жестом человек, еще наполовину иностранец, помещенный в пятно прожектора, был весь на виду, был мишенью. Крохотное пятнышко смерти буравило его лоб под картузом, дужку очков, лацкан бушлата. Искало место, куда лучше и вернее вонзить острие.
– Ну, я пойду, – прощался Фрэдичка, снимая со стены газетную полосу. – В машине меня ждет подруга. Она не может ждать слишком долго, с ней случается истерика. С тех пор как я отнял у нее наркотики, она не может находиться одна… Приходи в варьете! – Он пожал руку Клокотову. – Она будет петь ночью обнаженная. Она талантливая шансонье и отличная фотомодель. Но не может оставаться одна.
Вышел, слегка кивнув Белосельцеву, оставляя после себя искрящуюся пустоту, которая секунду оставалась незаполненной.
Наконец им было суждено остаться вдвоем. Они сидели за столом с остатками трапезы. Между ними в вазе стоял букет тюльпанов, плотные остроконечные бутоны, красно-золотые, на сочных стеблях. Белосельцеву казалось, вокруг букета разливается прозрачное зарево.
– Я дам тебе рекомендации ко всем оппозиционным вождям. – Клокотов погружал лицо в прозрачное, исходящее от цветов сияние. – Ты пойдешь к «левым» и «правым». К коммунистам и монархистам. Все они встретятся с тобой, будут откровенны и искренни. Но боюсь, они не смогут воспользоваться твоими услугами. Состояние их партий и движений таково, что они не способны создать современные аналитические центры, структуры безопасности и контрразведки. Ты столкнешься с риторикой, с завышенным самомнением, с политическим театром вместо политической стратегии. Я их ценю, преклоняюсь перед ними. Все они – яркие люди, самоотверженные патриоты. Но они не в состоянии воспользоваться твоим опытом кадрового офицера разведки.
Белосельцев старался понять и запомнить. Сопоставлял услышанное с тем, что увидел в этом кабинете, куда являлись оппозиционеры. Как манекенщицы, они поворачивались перед ним, показывая каждый свое одеяние, свой жест и свой силуэт. И он изучал их коллекцию, их стиль. Клокотов был частью этой коллекции, и его наблюдал Белосельцев.
– Но ведь вас истребят! – воскликнул Белосельцев. – Вас перестреляют по одному или заманят в ловушку всех вместе! Выставят на посмешище или сделают чудовищем! Вас переиграют, ибо о каждом из вас все известно! Ваши досье, ваши психологические портреты введены в компьютеры! Ваши митинги и конгрессы пропущены сквозь фильтры аналитиков! Вас будут вести, каждого в отдельности и всех вместе, пока не приведут в яму! Нельзя бороться с противником, который разрушил великую страну, крупнейшую армию, талантливейшую разведку, – нельзя с ним бороться с помощью транспарантов и мегафонов! Нужна структура безопасности. Я готов ее создать, привести в нее опытных специалистов разведки!
– Быть может, ты прав, и нас выбьют! Иногда я почти уверен, что выбьют! Сажусь по утрам в машину, поворачиваю ключ зажигания и жду, что взорвусь! Я нашел в моем кабинете два подслушивающих устройства, не исключаю, что все мои переговоры и встречи становятся известны врагу! Жду сквозь окно выстрел снайпера! Но я заставляю себя не задергивать шторы, заставляю каждое утро садиться в машину! Если нервы сдадут и я струшу, все покатится вниз!
Глаза Клокотова сузились в темные щели, в которых зажглись золотые точки – отражения стоящих в вазе цветов. Белосельцев узнал выражение яростного отчаяния, как тогда на Саланге, когда рвались и взбухали цистерны, выпрыгивал из кабины водитель в смоляном огне, пули чертили по обочине дымную дорожку и Клокотов по пояс в люке жадно смотрел, как медленно, словно горящий стог, обрушивается в пропасть, разваливается на куски наливник. То же выражение отрешенного восторга было теперь на его лице.
– Что тобой движет, если уверен, что тебя прибьют? Что заставляет действовать, если знаешь, что разгромят?
– Когда в Отечественную окружали дивизию в лесах и болотах, начинали сжимать кольцо, бомбить авиацией, расстреливать артиллерией, одни кричали: «Нас разгромили! Идем сдаваться!», бросали оружие, шли сдаваться, и их, безоружных, убивали… Другие говорили: «Нас разгромили, все безнадежно, поэтому будем сражаться до последнего!», сражались, умирали, но некоторые прорывали окружение и выходили к своим… Я принадлежу к последним! Я действую как бы уже после конца света! Как будто меня уже убили! Но это делает меня бесстрашным!.. Моя задача, задача моей газеты продемонстрировать людям бесстрашие!.. «Вы нас разгромили, – кричим мы врагам, – но мы вырвали чеку у гранаты и идем во весь рост!»
Он жарко дышал, улыбался широкой улыбкой. Его узкие глаза золотились точками, как у зверя. Белосельцев увидел, как от его дыхания, от его яростных слов один бутон стал медленно распускаться. Обнаруживал свою черно-алую сердцевину. Раскрылся, трепетал у его лица, словно из букета донесся бесшумный ответ на его откровения.
– Вижу впереди большие испытания! Непомерные траты! Будут несчастья, будут аресты, казни, пытки! Здесь, в Москве, у наших очагов и порогов! Но мы дали обет бесстрашия! Люди услышали наш обет, смотрят на нас своими заплаканными глазами!
Еще один бутон бесшумно лопнул, раскрыл алое пульсирующее лоно. Потянулся к его губам, зрачкам, близкому горячему лбу.
– На всех, кто в час беды не сдался, не пал перед врагом на колени, не пошел в услужение, в унизительный плен, – на всех благодать! Отец Владимир, которого ты видел, говорит: «Грядет пора новомучеников! Их жертвой спасется Россия!»
Белосельцев слушал друга, страдал, восторгался. Находил свое с ним сходство, родство. Видел их общую беззащитность, обреченность. Любил их всех, был готов разделить их долю.
Внезапно один из бутонов, находившийся близко от его губ и зрачков, шевельнулся, стал раскрываться, направил в него ало-золотые, исходящие из сердцевины лучи.
Они сидели, два товарища, два солдата великой разгромленной армии. Два несдавшихся бойца. И огромный красный букет пламенел перед ними.
Глава четвертая
Белосельцев заручился рекомендациями Клокотова, и первым, кого хотел посетить, был лидер российских коммунистов. Генсек – так в шутку или в целях конспирации называл его по телефону редактор. Тот назначил встречу, и Белосельцев обдумывал предстоящую беседу, старался угадать сущность человека, которому собирался вручить свой боевой и разведывательный опыт, свою судьбу или даже жизнь.
Встреча предстояла не в сумрачно-сером, чопорно-старинном здании Центрального комитета на Старой площади, над которым когда-то развевался красный флаг государства, перед фасадом расхаживали зоркие соглядатаи, робея, отворяли огромные тяжелые двери посетители, подкатывали непрерывной чередой черные лакированные лимузины, и в каменных теснинах, среди бесконечных коридоров, в высоких кабинетах день и ночь, как трудолюбивые муравьи, работали прилежные аппаратчики. Там вырабатывали таинственное вещество, склеивающее воедино огромную страну. В глубине этого величественного муравейника жила, дышала, наливалась соком, оплодотворялась сокровенным знанием хранимая муравьями матка – Генеральный секретарь партии.