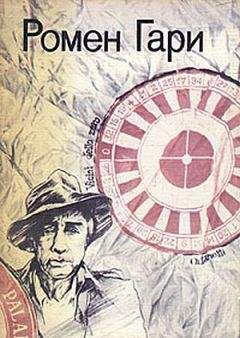Ромен Гари - Тюльпан
XIV
Еще один заблудший крестный ход
— Дядя Нат.
— Да, патрон?
— Груз неба и земли — для одного человека это слишком.
— Придется потерпеть, патрон: закон тяготения.
Тюльпан вздохнул.
— Хотел бы я вырвать наконец человека из его одиночества…
— Беритесь за бунт, который вам по плечу, — посоветовал Натансон. — Человек, патрон, — он ужасающе одинок. Всегда был таким и пребудет таким вечно. И не вашим ППТ[27] менять здесь что-то.
Утром на чердаке привычно толпились черные всех мастей, более или менее вызывающие, которые хотели видеть Тюльпана, слышать его, исповедаться ему, пересчитать его ребра, получить прядь его волос и его благословение. Как всегда Махатме пришлось отказываться от бесчисленных приглашений на обед, полученных со всех концов света. Нанес ему визит и некий Росселли, более известный в квартале под кличкой «Вурлитцер»[28], данной ему за гигантский рост и великолепный бас. Дядя Нат познакомился с ним еще до Первой мировой — они вместе работали в конторе перевозок. «Мы были тогда два негра-идеалиста, — вспоминал он мечтательно, — и никакой груз не был слишком тяжел для наших плеч. Истинные Тюльпаны, патрон… особенно Росселли. Он целый день мотался по улицам Гарлема, согнувшись пополам, с тяжеленным грузом на спине.
— Однажды, — говорили ему другие негры, сидя на тротуаре, мирно покуривая и поплевывая, — одним паршивым утром, Вур, на твоей шее окажется веревка, и будет она хорошенько затянута. Это так же верно, как то, что Бог есть. Совсем незачем негру метить выше своей головы.
— Да я подниму Эмпайр-стейт-билдинг и швырну в море, — басил Росселли, покряхтывая. — Я подниму все небоскребы Уолл-стрит и швырну их в море вместе со всеми дурными неграми, которые будут внутри.
— Тут ничего не поделать, Вур, — говорили черные, поплевывая и качая головами. — Были негры, которые тоже пытались, до тебя. Вспомни Розу Люксембург, Маттеотти[29], Карла Либкнехта… Мы до сих пор их оплакиваем!
— Да вы только дайте мне этот оружейный завод! — громыхал решительно Вурлитцер.
— Нет в мире негра, способного в одиночку поднять такую штуку, — печально уверяли черные. — Даже если б все негры, которых сотворил Господь, собрались вместе, у них и то сил не хватило бы, Вур.
— Может, и хватило б, только они не знают, — утверждал Вур. — Может, они плохо пытались, вот и все. А я хочу попробовать.
— Пробовал один такой, давным-давно, — негр из Вифлеема, — шептали черные, вздыхая, — вот и вспомни, что с ним случилось. Нет, Вур, ты мало шпината ел, чтобы за такое браться.
Но Росселли плевать хотел на эту упадническую болтовню. Казалось, сердце у него накрепко пришито в груди, и его сложнее растревожить, чем все великие колокола, которые когда-либо звонили на земле осанну. И голос у Росселли был так же велик, как голоса колоколов; он-то и стал причиной его падения. Как-то летним вечером Росселли запел негритянский гимн у открытого окна, а мимо проходил один белый. Две недели спустя Росселли пел „Swing, swing my heart“ и „Oh! how I love my sugar daddy“ по радио; через месяц он купил паккард с ливрейным шофером, стал членом ассоциации „Америка прежде всего“ и получил американский паспорт».
— Поговорим немного, но поговорим хорошо, — сказал Вур, входя на чердак. — Я пришел послушать вашего хваленого соловья. В квартале только о нем и говорят: «Есть в Гарлеме негр Натансон, который держит на чердаке знаменитого соловья. Его зовут Тюльпан, и у него самый прекрасный голос в мире. Слушаешь его, и жизнь становится лучше, а каждый негр знает, зачем он родился: чтобы слушать по ночам песни соловья. Он поет, Вур, как ты никогда не пел и петь не будешь… Единственный соловей на свете, который поет человеческим голосом!» Я пришел послушать. Я пришел подписать с ним контракт.
— Это не обычный соловей, — проговорил дядя Нат. — Мой соловей — это аллегория.
— Я достаточно зарабатываю, чтобы позволить себе соловья даже очень редкой породы!
— Это соловей-идеалист…
— Я заплачу сколько нужно.
— Это соловей, — сказал дядя Нат, — который поет только революционные песни!
— Просто он голоден. Кормите его дважды в день, дайте ему уютную клетку — и он запоет «Swing, swing my heart» и «Oh! how I love my sugar daddy», как все на свете!
— Ему нужна не клетка, — сказал дядя Нат, — он живет в груди.
И, когда они остались одни, дядя Нат, как всегда, сказал Тюльпану:
— Патрон, не изводите себя…
— Не буду, дядя Нат.
— …потому что все это не мешает соловью петь.
— Мы здесь не затем, чтобы слушать соловья.
— А зачем же тогда, скажите на милость?
— Не знаю. Никто не знает.
— Ну-ну-ну, патрон. Лично я отлично знаю. Мы здесь именно и только затем, чтобы ублажать соловьев.
— Может быть, и так.
— Да не может быть, а точно, раз я это вам говорю. Я это говорю и докажу. Я очень хорошо знаю, как все случилось. Господь сотворил соловья и дал ему прекрасный голос, и соловей, чуть только ему воткнули последнее перо в задницу, тут же взлетел на ветку и — тюр-лю-лю! тюр-лю-лю! «Я пою и пою для тебя всю ночь». Двести сорок семь ночей подряд пел он так, соловей-то. А потом вдруг загрустил и умолк. И Господь сказал ему: «Эй, соловушка, что случилось? Я дал тебе прекраснейший в мире голос, а ты им не пользуешься. Хорошенькое дельце. Далеко же пойдет мое сотворение мира, если все будут так делать». И тогда соловей подлетел к Господу и сказал: «Дедушка, зачем мне прекрасный голос, когда некому им восхищаться?» — «Есть же я», — слегка обиделся Господь. — «Это не смешно, — ответил соловей. — Вам стоит только захотеть, и завтра Вы запоете не хуже меня, с Вашими-то способностями». — «Ладно, ладно, — сказал Господь, — подумаю, что можно для тебя сделать». И наутро ему пришла в голову идея…
— Тоже мне идея! — вздохнул Махатма.
— Он сотворил человека. И вот зачем было создано человечество — чтобы порадовать соловья!
Народ перед домом молился целый день и к вечеру принялся упорно требовать Тюльпана. Дядя Нат подвел своего друга к окну. Толпа испустила рев, скандируя: «Да здравствует Европа! Да здравствует ее Президент!» — и предалась бурной демонстрации своего рвения и своей симпатии.
И вот тогда-то Тюльпан начал сдавать.
Он окинул толпу странным взглядом, посыпал голову пеплом и монотонно затянул:
— Мир нуждается в ком-то прекрасном и чистом.
— Эй, патрон, — немедленно заволновался дядя Нат. — Вы же не собираетесь изводить себя? Вспомните, что случилось с Сэмми Подметкой!
— Человечеству нужна ростра, — прошептал Махатма.
Дядя Нат сбегал за стаканом воды, но Тюльпан с достоинством оттолкнул его.
— Зачем отказывать мне в истинном величии?
— Патрон, не заводите нас!
— Долой изоляционизм совести! — вскричал тогда Тюльпан.
Дядя Нат с ужасом отодвинулся от него.
— Так и есть, — охнул он, — свихнулся!
— Я протестую против нищеты мира!
— Попался на свой же крючок!
— Против деревушек по соседству! — кричал Тюльпан.
— Так было с учеником чародея![30]
— Мы хотим, — гремел Тюльпан, вспрыгнув на стол и потрясая кулаком, — мы хотим, чтобы Человек скорбящий стал наконец Человеком действующим!
Ночь он провел, расхаживая нагишом по чердаку и посыпая голову пеплом, жестикулируя и бормоча что-то библейское. Спозаранку Тюльпан завел:
— Я крестный ход рассвета, что занимается над no man’s land…[31]
Дядя Нат, который сторожил его всю ночь, воздел руки.
— Еще один заблудший крестный ход! — причитал он*[32].
XV
Индивидуум не мертв
Бакалейная лавочка синьора Черубини находилась в Сохо[33], в самом сердце Лондона, между рестораном «Прекрасные Афины» и бутиком портного Джованиани. Это была клетушка, забитая горшками, ящиками и салями, которые свисали с потолка, словно сталактиты; здесь царили полумрак и благодатное тепло крепких запахов, среди которых довольно назойливо выделялся крепчайший аромат горгонзолы. Хозяин бакалеи обитал в задней комнате, где стояла узкая кровать и несколько стульев — вот и вся мебель; горгонзолы и салями тоже были представлены там на отдельной полке: лавочник привык к духу своего заведения, и сон в иной атмосфере вызывал у него мигрень. Над кроватью висели ходики с очень старой кукушкой, которая усталым голосом отсчитывала время. Рядом была клетка с почтенным попугаем, уроженцем Пизы: синьор Черубини вывез его с собой, когда отправился в ссылку после дела Маттеотти. Словарный запас птицы свидетельствовал о высокой политической культуре и неподкупной преданности свободе. Ее любимейшими лозунгами были «Долой фашизм!», «Да здравствует Республика!», «Индивидуум не мертв!» и даже «Да здравствует Атлантическая хартия!» — магические слова, которые попугай частенько орал среди ночи таким голосом, словно его мучили кошмары. Следует, тем не менее, заметить, что после войны политического задора у старого бойца ощутимо поубавилось; сперва он начал делать паузы между своими манифестами, настороженно замолкал, все дольше задумывался, закрывая один глаз. Наконец настал день, когда он вышел вдруг из своего странного оцепенения и триумфально выкрикнул «ку-ку», которое принял, быть может, за лозунг нового времени, не будучи лишен ни трезвой философии, ни той жестокой наблюдательности, которая свойственна глубоким старикам. Имя птицы было Паоло. Над кассой было установлено радио: синьор Черубини предпочитал быть в курсе всего, что происходит в большом мире, час в час. Он не хотел, чтобы оставленные без надзора правительства застали его врасплох. Наморщив лоб и скрестив руки на груди, он прослушивал полный отчет о проблеме и, если дело было срочное, не теряя ни минуты, покидал свою лавку, перебегал улицу, входил к своему другу мистеру Джонсу и немедленно представлял ему самый разумный выход из ситуации. «И это единственно возможное решение, — заключал он. — Их предупреждали. Я умываю руки». Мистер Джонс качал головой и говорил только: «О, dear! О, dear!», словно выражал опасение, что, даже получив предупреждение, «они» все равно сделают по-своему. Дружба, которая связывала синьора Черубини и мистера Джонса, возникла вовсе не из-за того, что их лавки случайно оказались напротив друг друга. Им даже казалось иногда, что сначала родилась их симпатия, а лавки расположились так уже после, сами собой. Мистер Джонс всегда пробирался в бакалею мелкими шажками, украдкой, словно мышь, которая собирается обнюхать кусочек горгонзолы. Он устраивался на стуле подле ящика с цукатами; позади него с газетой в руке восседал синьор Черубини, слегка топорща усы и пуча глаза от волнения, в которое приводили его новости. Рукава его рубашки зимой и летом были закатаны, обнажая на левой руке отвратительную татуировку: синьор Черубини никогда не служил на флоте, просто однажды оказал услугу одному любителю из Сохо. Два друга почти не разговаривали — долгий опыт общения показал, что мистер Джонс всегда и во всем соглашается с синьором Черубини. Порой это было нелегко, потому что бакалейщик частенько менял свое мнение, но мистер Джонс без колебаний делал то же — за компанию. Обычно синьор Черубини громко, с пьемонтским прононсом читал ему газету, тщательно выбирая самые дурные новости.