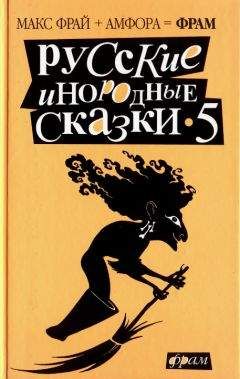Макс Фрай - Русские инородные сказки 2
1.
Трава: приторно-сладкая, с кислинкой, с горечью, сочная, с каплями прохладной росы на листьях. Едва сопротивляясь, она обрывается у самых корней, большими пучками отправляется в мою пасть и там, перетираясь, хрустит… О, этот божественный хруст! О, этот волшебный вкус! О, эта благословенная отрыжка! О!..
Сознаю, что мой пастбищенский восторг нелеп. Дурацкий сон. Но что поделать? Коли снится, надо смотреть.
Наконец бескрайние зелёные луга исчезают, их сменяют тягучие зелёные круги-волны, которые липнут ко мне, тянут… Кое-как отбиваюсь — роль утопленника мне не по вкусу — и сразу попадаю в бездонную черноту… Нет, так не пойдёт — пора просыпаться.
Темно. И что-то не так. Должно быть, ноги и руки: во сне я умудрился поджать их под себя, и они затекли.
Лёг на бок; конечностей не чую. Что-то ещё не так. Что-то с воздухом — то ли он душный, то ли…
Запах! Откуда эта вонь? Не может в моей комнате так вонять! А где может?
Я покрутил головой, но ничего не увидел, — темно. Признаваться не хотелось, но я догадывался, где может так пахнуть, более того, я знал, что единственное место, где может так пахнуть — это хлев! Но как (смех, да и только!) я мог уснуть (и даже просто проснуться!) в хлеву?!
Но если это не моя спальня и не хлев, тогда где же я нахожусь?
Чтобы выяснить это нужно встать, включить свет и посмотреть. Легко сказать! Конечности по-прежнему были словно чужие. Я пошевелил ими чуть-чуть, чтобы усилить кровообращение. Надо подождать.
И всё-таки: если это хлев, то как я сюда попал? Может быть, спьяну? Да ведь не пил вчера как будто. Или пил? Погоди-погоди. С работы пришёл около шести. Или это позавчера около шести, а не вчера? Нет. Вчера: ещё мешок опилок принёс на подстилку скотине, как принес, так и оставил во дворе — забыл пересыпать в сарай.
Значит, вчера. В шесть. Переоделся, умылся, ужинать стал. Было что-нибудь за ужином? Я не брал — повода нет, да и получка через неделю только. Отцу недавно половину печени вырезали, так он теперь трезвенник. Боится пока — врачи застращали. Своего тоже нет ничего: брагу с прошлой зимы не ставили, когда флягу (нашли, в чём воду возить!) на морозе разорвало. А может быть, в гости кто приходил? Не помню… Стоп. После ужина сел было перед телевизором, да братишка подошёл, попросил с уроками помочь. Там ещё задачка такая заковыристая попалась: допоздна провозился, потом сразу спать лёг.
Ну точно не пил!
Но как же я очутился в хлеву? Или это не хлев? Тогда что же? Тьфу ты, всё сначала!
Ноги, руки, да и всё тело по-прежнему были словно чужие. Вдобавок затекла шея: всё это время я, подняв голову, напряжённо всматривался в темноту.
Покрутив шеей, опустил было голову на подушку, но той не оказалось на месте; то же, что заменяло её, имело особый, специфический запах. Потянув носом глубже, я различил смешанный аромат спирта и смолы.
Опилки!
Я дёрнулся как ужаленный — точно хлев! В голове моей что-то зазвенело, рождая панику; с ужасом я осознал, что звон издаёт колокольчик, висящий у меня на шее; мелькнула страшная, фантастическая, несуразная догадка… Не давая ей оформиться, я изо всех сил сосредоточился на своих непослушных конечностях, встал кое-как на четвереньки и потащился к едва заметному светлому пятну, в котором угадывалось окно.
Под яростным натиском моего лба грязное стекло разлетелось вдребезги вместе с гнилой рамой и в хлев хлынул серый утренний свет.
Первое, что я увидел, когда глаза пообвыкли, были коровьи ноги, чёрные в белых чулках, оканчивающиеся раздвоенными копытами, выпачканными в дерьме.
Это были мои ноги, точнее, мои передние ноги, так как, взглянув под своё широкое брюхо, я обнаружил сзади ещё одну пару таких же, с тою лишь разницей, что вокруг них обмотался длинный и также выпачканный в дерьме хвост.
Но не только это увидел я, заглянув под брюхо. То, что я там увидел, показалось мне страшнее всего: большое белое вымя с четырьмя длинными, раздувшимися от частой дойки отвратительными сосками.
Это открытие стало последней каплей. Вонзив рога в сенные ясли, так что во все стороны брызнула щепа, я отчаянно заорал:
— Ма-а-а-ма-а-а!
2.Скрипнув дверью, Петрович вышел на крыльцо. Шумно вдохнул свежий, с прохладою и медвяным майским привкусом, воздух. Почесал волосатую ляжку, щурясь на медленно выползающее пурпурное солнце, зевнул, подтянул трусы и, постукивая шлёпанцами, сбежал во двор; погладил на ходу вислоухого пса и скрылся в уборной.
Шуганув окопавшихся там крыс, Петрович присел на корточки и стал рассматривать порядком уже изодранный журнал.
Крысы затаились где-то. Было покойно и тихо, лишь толстая навозная муха гудела назойливо за спиной.
— Му-у-а-а-у-у! — истошно, чуть ли не истерически заорала корова.
От неожиданности Петрович уронил папироску, которую стал было прикуривать, выронил спичку, опалив ладони, резко взмахнул ими, покачнулся и до подмышек провалился в дыру.
— В-бога-душу-мать! — заверещал он пронзительно, вообразив, что началась третья мировая или, по меньшей мере, снова взорвался пролегавший неподалёку газопровод.
Но тут корова снова заорала. Сообразив, что виновница его падения — она, Петрович, неистово матерясь, выбрался из уборной, схватил первую попавшуюся палку, ворвался в хлев и принялся охаживать дурную скотину по вздутым бокам.
Корова истерила, Петрович голосил. Вторя им, на шум примчалась простоволосая со сна тётка Дарья и стала оттаскивать от Берёзки осатаневшего, благоухающего экскрементами супруга.
Наконец, все трое выдохлись. Снова стало тихо, хотя и не так покойно как тремя минутами раньше, — тётка Дарья молча плакала, утираясь подолом ночной рубашки, Петрович боролся с отдышкой, Берёзка мелко дрожала — в её тупых, бездонно синих глазах застыл ужас.
— Свихнулся ты, что ли, идиот старый? — со всхлипом спросила тётка Дарья и сморкнулась в подол.
— Да я не… да что ты, мать… да она… — залепетал, оправдываясь, Петрович и изумлённо покрутил головой, словно приветствуя возвращение своего небогатого разума.
— Ладно, пойду умоюсь.
— Брось ей сена сперва, — велела Дарья, уходя в дом, — я пока пойло наведу.
Подцепив добрый навильник, Петрович опустил его в ясли; цокнул удивлённо на разбитые доски, повернулся к выходу и едва увернулся от нацеленных ему в живот Березкиных рогов.
Ещё одна доска разлетелась в щепки.
— Му-у-у! — проклокотала корова на невозможно низкой ноте, яростно мотая головой.
Петрович удалился на мелко трясущихся ногах, нервно подёргивая краем рта.
Под установленной в огороде летней колонкой он кое-как смыл с себя дерьмо и ушёл в дом.
Тётка Дарья уже навела пойло (две буханки ржаного хлеба на ведро воды) и нарубила ведро сырой картошки.
— Слышь, мать, — сказал Петрович больным голосом, — дай ей сама, мне что-то не по себе, полежать надо…
Тётка Дарья сердито поджала губы, надела халат, повязала косынку, подхватила вёдра и вышла, пинком распахнув дверь.
3.Я и не заметил, как первоначальный шок от сделанного мной безумного открытия уступил место не менее безумному гневу. Если бы не цепь, надёжно удерживающая меня у бревенчатой стены хлева, то, боюсь, это утро стало бы для Петровича последним. Подумать только: меня, как паршивую скотину отлупили палкой! Как собаку! Как корову!
— Го-оспо-ди-и! Нет, я не набожен, но каким ещё словом можно лучше выразить стон отчаяния?
Корова… Я — корова. Неужели это наяву? Неужели это не кошмарный сон, не пьяное воображение, не галлюцинация сумасшедшего?
Вот он я — вымя, копыта, хвост, да крепкие рога, да горящие от боли бока. Цепь, колокольчик, сено в поломанных яслях, чёрные стены коровника, обоссанная подстилка на подгнившем полу, куча дерьма в углу. Моего — ха-ха — дерьма! И рой зелёных мух над ним.
Не слишком ли реально для галлюцинации? Может, и не слишком — да как от неё избавится?
— Го-о-оспо-ди-и!
— Ну, чего размычалась, милая? Сейчас кушать будем.
С ласковым ворчанием появилась тётка Дарья в наряде уборщицы, неся вёдра с коровьим завтраком.
Я покосился: неужели она думает, что я стану есть это?!
Тётка видимо не сомневалась, что стану. Ведро с пойлом она поставила в стороне, а картошку — прямо перед моей мордой.
— Му, — пожаловался я, отрицательно качнув рогами.
— Ешь, милая, ешь, не упрямься, — проворковала Дарья, — ну, не буду тебе мешать, голубушка. Кушай.
Видя, что я не притрагиваюсь к еде, она неодобрительно поджала губы, взяла лопату и стала сгребать в угол промокшую подстилку.
В этот миг я вдруг ощутил характерный позыв. Хвост мой сам собой приподнялся, и между моих задних ног образовалась свежая дымящаяся лепёшка. Сконфуженно мыкнув, я попятился в угол, и прочие лепёшки, так же как и бесконечный поток невероятно вонючей мочи, угодили прямиком в навозную кучу.