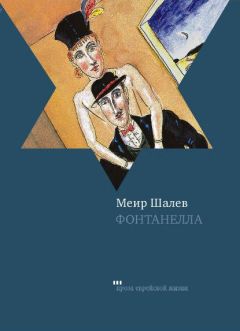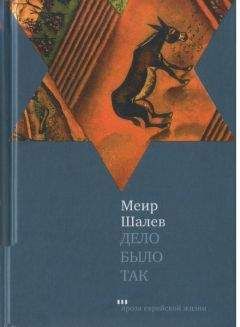Меир Шалев - Эсав
— Это было последними словами многих девушек в этой стране, — сообщил я ей.
Решительность ее тона, материнская и детская одновременно, удержала меня от того, чтобы приказывать или просить.
— У меня уже есть один отец, — рассмеялась она, — и он беспокоится обо мне за вас обоих.
И исчезла. И я, этакий сирота в годах, не находил себе места. «Мне никогда ничего не рассказывают», — подражал я старому Форсайту по телефону, и сестра этого типа из армии сказала: «Я должна объяснять тебе, что такое Роми? Она помчалась погулять».
Нетерпеливая, стремительная и возбужденная, моя племянница носилась по материку, посылая мне стрелы своих звонков «за счет абонента» из любого уголка, в любое время и с любого расстояния.
— На улице в Оксфорде, — восторгалась она, — один негр играл на тромбоне специально для меня, и его щеки надулись, как два прозрачных шарика, так что стали видны самые-самые тонкие сосудики под кожей.
Я нашел Оксфорд в Канзасе, в Мэне, в Коннектикуте, в Огайо, в Миссисипи, в Небраске, в Нью-Йорке, в Висконсине, а также в Нью-Джерси и оставил атлас возле телефона.
— Я не знаю, как называется это место, но тут живут очень уродливые люди. Я послала тебе оттуда их фотографии, потому что знала, что ты не поверишь.
Теплый дождь, «с такими вот здоровущими каплями», падал на нее во Флориде — она занималась там обдиркой кожи на крокодильей ферме.
— Может, кончишь уже эти свои дела и приедешь сюда? — кричал я на нее. — Тридцать лет живу в Америке и не слышал, чтобы люди занимались такой мерзостью.
— А ты думал, дядя, что крокодил раздевается сам? Я большая и сильная, и мне это не противно.
— Рабочие? — Она смеется. — А что рабочие? Бог с тобой, дядя, от меня так несет падалью, что по сравнению со мной даже Мертвая Хая пахнет, как нарцисс. На меня тут вообще никто не смотрит.
Звонок из Потсвилла:
— Я побуду здесь несколько дней. Один симпатичный старикан подвез меня в своем пикапе и пригласил к себе.
— И ты согласилась?
— Почему бы нет?
— Почему нет? Я должен объяснять тебе, почему нужно говорить таким людям «нет»? Да еще в таком месте, которое называется Потсвилл? Где это вообще, черт побери?
— Почему ты ругаешься, дядя? Он всего-навсего старый, симпатичный человек. У него на огороде растет редиска. Ты пробовал когда-нибудь пиво с редиской и маслом? Стоит попробовать.
— Насколько старый? Что для тебя значит — «старый»?
— Старый, я знаю? Сорок, пятьдесят, шестьдесят, ну, как ты или отец. Он даже сказал мне, что я могла бы быть его дочерью.
— Да?! — заорал я. — И ты хочешь мне сказать, что тебя убедила эта дурацкая и банальная фраза, истертая, как залупа монаха?
— Как ты разговариваешь, дядя! — Она смеется. — Не рот, а помойная яма. Знаешь, какой замечательный завтрак он мне приготовил?
Дядя не отвечает.
— Хочешь поговорить с ним? Вот он стоит, смотрит на меня и ни фига не понимает, что я говорю.
Я швырнул трубку.
ГЛАВА 69
— Как ты добираешься от места к месту?
— По-разному.
— Что это значит — по-разному?
— Автобусом, поездом… уф… Сейчас меня подвез немецкий турист. Старый хрыч на мотоцикле. Он жутко смешной, и вообще вдвоем путешествовать дешевле.
— Что именно дешевле? Ты спишь с ним в одной комнате?
— Что с тобой в последнее время? Я думаю, что трахаться ему вообще не интересно. Он немного чокнутый в этом вопросе.
— Could you be more specific[107], Роми, дорогая?
Она рассмеялась:
— Чокнутый, я знаю?.. Странный такой. Фон что-то. Из семьи князей и баронов и всякое такое.
— Только этого мне не хватало! Странный немец на мотоцикле. Чем он странный?
— Я знаю?.. Он как-то чудно говорит. Вдруг посмотрит на меня и спросит: «Волен зи мит мир штербен, Ромиляйн?» Я надеюсь, что я правильно произношу.
— Ты совсем спятила? Что я скажу твоему отцу? Что ты ездишь на мотоцикле с немцем, который спрашивает тебя, хочешь ли ты с ним умереть?
— Всё в порядке, дядя! Я большая и сильная, и у меня есть страховка. Не беспокойся.
Ее голос постепенно слабеет, ее смех постепенно исчезает.
Подобно поздней летней буре, она кружилась по всей стране, неслась вихрем, топала по дорогам и звонила в любое время и из любого места. В пять утра и в два пополудни. С железнодорожных и заправочных станций, из мотелей и кафетериев. Иногда странное хихиканье, однажды — страшный крик: «Дядя, дядя, дядя!» — и потом разъединение, после которого я не спал два дня и три ночи, пока она не позвонила снова. «Я кричала? Когда я кричала?.. Ах, тогда… Да нет, ничего не случилось.» Кто-то жутко ее «щекотал», и она не могла говорить.
— Не беспокойся, я управляюсь. Да, я ем… и завтрак тоже. Да, да, все питательные вещества до единого.
— На что ты живешь?
— Сейчас? Я работаю у фотографа.
— С какой стороны объектива ты находишься?
— Это не то, что ты думаешь, — смеется она. — Мы делаем для пожилых пар фотографию их первой встречи.
— Что?
— Они приходят, рассказывают нам историю своей встречи, все такое, показывают свои старые фотографии, и я записываю все подробности и организую им то же место, ту же одежду, а Филипп фотографирует, как они сидят там и плачут. Chez nous a Paris мы больше-больше всего любим вспоминать любовь.
Филипп. Тошнота подступила к моему горлу. В своих расширяющихся книзу штанах, с высокой талией, с маленькими, плотно сбитыми яичками и цепочкой на шее.
— Где ты сейчас?
— Эй, как называется это место? — услышал я, как она кричит на своем израильском английском. — Я в телефонной будке. — Ее слова закачались на волнах близкого мужского смеха. Незваный Гумберт проснулся во мне. Ах, ах, ах, сказала маленькая дверца.
— С кем ты там, Роми? Что там происходит? Неужто я умоляю? Неужто угрожаю? Да я просто старый дурак.
Я еще кричал, когда она положила трубку. Она уже усвоила отвратительный американский обычай обрывать разговор не прощаясь.
Неделю спустя, посреди ночи, она закричала с лужайки, что возле дома:
— Дядя, открой, это я! — И вот уже она врывается внутрь, грязные пряди волос выбиваются из-под старой греческой шляпы. — Ты можешь заплатить за такси? У меня кончились деньги.
Мое сердце остановилось. Ее сильные и длинные руки обнимают меня. Она привела с собой парня, у которого на лице написано, как вытатуировано, — «кибуц». Немного хромает, в очках, на три-четыре года старше Роми и на два-три сантиметра ниже. Оба неуклюжие, как телята, голодные и веселые, как собаки динго. Я приготовил им еду полуночников из яичницы и салата, сидел рядом с ними, пока они припоминали перипетии своей поездки, смотрел на них усталыми глазами доброго дедушки, пока они хихикали набитыми ртами, толкали друг друга локтями и обменивались восклицаниями на своем тайном молодежном языке.