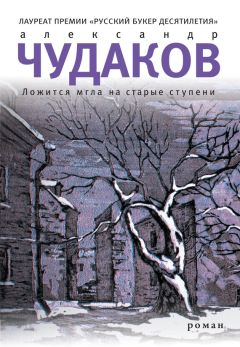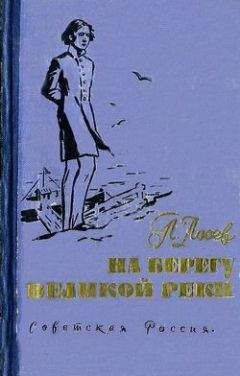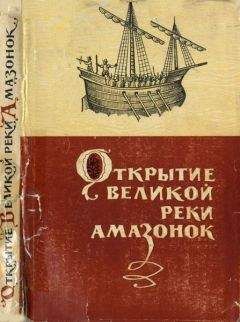Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени
Разведчик был человек не только хладнокровный, но и запасливый. В записную книжечку при свете фонарика вечным пером он чётким почерком записал приметы: ушанка из рыжего телёнка или собаки, с одной завязкой, в телогрейке, брюнет, голос хриплый. Поставил дату и час.
В обед мужик опять бросал камни. Когда ушёл, капитан записал, что успел разглядеть ещё (наверно, пока его мучитель наклонялся, чтобы посмотреть, как подвигается дело): косоворотку, скорее всего синюю, шрам на подбородке и сверкнувший на солнце стальной зуб.
В следующий раз он сделал краткую запись — уже шатающимся почерком, видимо, повреждённой рукой: что мужик — пьяница и что он живет один. Как разведчик это установил, осталось неизвестным. Но подтвердилось всё. Самая последняя запись — её запомнил отец Антона, — залитая кровью, почти неразборчивая, была такая: «Кого побивали каменьями в древней истории? Прощай, отец, прощайте, боевые друзья». Но и здесь стояла дата и точное время: 19 час. 30 мин.
— Прошу обратить внимание, — сказал на суде прокурор Мамченко, тот самый, который потребовал расстрела для всех членов банды Бибикова, а также многих других,
прошедших через областной суд за годы войны. — Капитан Каблучков знал, что шансов у него нет никаких. Но он был офицер Красной Армии. И он не потерял присутствия духа.
Он решил помочь правосудию. Он верил, что оно не замедлит. По его точнейшим записям мы буквально через два часа нашли преступника. И карающий меч правосудия настигнет его. Капитан Каблучков имел семь правительственных наград; в том числе два ордена Славы. Он прошёл от Москвы до Берлина. И — погиб от руки негодяя, отребья нашего общества. Именем закона Союза Советских Социалистических Республик я требую высшей меры наказания.
Суд согласился с требованием прокурора.
Чемоданы по акту передали дяде Дёме. Когда он нашёл в себе силы в них заглянуть, увидел: в большом кто-то хорошо пошуровал — не мог же его сын, обувщик высшего класса, к тому ж наизусть знающий чебачинские дела, захватить такой пустяк матерьяла на футора для голенищ? Но взяли по-божески, осталось достаточно.
Из этой кожи Каблучков все послевоенные годы шил хромовые сапоги райисполкомовскому, военкоматскому и энкаведешному начальству. Но не только ему. За сутки сладил из редкостной генеральской чёрной глубокой замши туфли для конферансье областной филармонии, у которого в чебачинском поезде из-под вагонной лавки увели его концертные лаковые. Шил и учителям — по выбору. Антоновы башмаки тоже вышли из этого чемодана. Никогда не отказывал стачать полпары одноногому, такие невыгодные заказы не принимала местная сапожная мастерская, хоть и называлась артель инвалидов.
Но наотрез отказался шить капитану Сумбаеву, так как считал клеветой его утвержденье, что солдатские сапоги вплоть до русско-турецкой войны шили без правого и левого — на любую ногу. А как же знаменитые суворовские рейды? «Сколько от земли до звёзд?» — «Два суворовских перехода!» В обуви не по ноге не то что пятьдесят, пяти вёрст не одолеешь. А Альпийский поход? Не может того быть, чтоб русские мастера-подбойщики согласились положить своё искусство на такое непотребство.
О немецкой трофейной эрзац-обуви Каблучков и слышать не мог. «Ботинки — политурка, в подмётке — штукатурка, в носке — картон, палец — вон».
Осуждал и очень ценившиеся американские с высокой шнуровкой солдатские ботинки, машинную строчку.
— Спору нет, ровно, красиво, оранжевая нитка, особливо когда новые. Но как хлебнут нашей грязцы…
И действительно, нитки не сразу, но подпревали, лохматились, ботинки начинали пропускать воду.
— Ведь у них что? Обыкновенная нитка, хоть и витая. А у меня? Дратва из дюжины льняных нитей, провощена и натёрта варом. Не продёргивается, а, как штопор, прокручивается сквозь отверстие, которое уже её, затыкает дырку, как пробка в бутылке, на распор. Даже ежели поизотрётся дратва, то вар приклеит конец, и шов не пойдёт распускаться дальше, хучь бы и собрался.
Импортную обувь, хлынувшую потоком в семидесятые, старый подбойщик тоже не одобрял. Почему наша фабричная обувь самая худая, понятно: как всё.
— Но на ихней-то почему загиб от головки на подошву узкий, как палец у чахоточного? — Каблучков вытянул длинный палец. — Место внатяг, рвётся быстро, и уж не починишь — нет запаса. Это перьвое, — он посмотрел на вытянутый палец и загнул его. — Серёжка, кому щиблеты возишь, толкует: конвейер, конвейер! А я ему: отчего же припуск положительный дать нельзя — конвейер, что ли, станет? Молчит, неча сказать. И каблук полый, чуть стоптал — дыра, меняй весь, — дядя Дёма загнул второй палец и к концу речи позагибал на руке их все, — почему?
Разговор был в прошлый приезд; в этот, вручая Антону щиблеты для сына, сапожник сказал, что дотумкал, почему: «Ты надоумил».
Оказалось, Антон в тот приезд рассказал, что в Японии ножички для чистки картофеля сообразили делать под цвет кожуры, чтобы хозяйка вместе с нею выбросила и ножик.
— Обувщики там везде — такие же. Делают, чтоб побыстрее снашивалось. Только не глупо, не внаглую, у них это не пройдёт, а — хитро. Работают умы. Ясно: прибыль, капитализм.
— Демьян Евсеич! — застонал Антон. — Вы же всю жизнь нэп хвалили! Я от вас первого и услыхал, что когда его ввели, всё изменилось, как в сказке: весной — карточки, осьмушка, а уже осенью — на Невском в витринах куры, гуси, поросята… А ведь то был только кусочек капитализма, да ещё регулируемый государством.
— Именно: регулируемый. А полный когда — акулы капитализма, эксплуатация трудящихся.
Антон кипел, напоминал, сколько стоил при царе фунт мяса, сколько зарабатывал Каблучков-отец и сколько на своё жалованье мяса может купить советский рабочий.
— Зарабатывали неплохо. Но всё равно была безудержная эксплуатация трудового народа, погоня за сверхприбылью.
Антон, ошарашенный, замолчал. В сознании вдруг отчётливо всплыл давний разговор с Юриком. Сверхприбыль! То же слово, жупел, всеобщая отмычка, территория, где братаются сапожники и интеллектуалы. А что если — если они правы?..
Наилучшей обувью Каблучков считал опойковые или хромовые сапоги и сильно огорчался, что они исчезают из обихода и заменяются резиновыми.
— Отсюда и ножные болезни все. В коже нога дышит, ей тепло, уютно. Придумали ещё — охотничьи высокие сапоги, что до паха, из резины клеить!
— А писатель Тургенев, — сказала библиотекарша Ира, — помните, я показывала вам фото? Снят в таких сапогах.
— Тю, девушка! Да они ж из кожи! Думаешь, стал бы он в этой резиновой душилке охотиться да рассказы сочинять? А Некрасов, который «Крестьянские дети» написал — в школе учили: «Вчера, утомлённый ходьбой по болоту, зашёл я в сарай и заснул глубоко». Да разве так он бы утомился в резине вашей? Он бы без ног был, коли вообще до сарая своего добрался, и проспал бы в нём не час-два, а до утра! По уму стачанный сапог принимает форму ноги хозяина уже через две недели. На отхожие промыслы ране как двигались? Пёхом. Рисуют мужика всегда в лаптях. Может, по деревне в них он и ходил. А за околицу вышел — далеко не ушёл. Подошва-то плоская, как блин. Думаешь, супинатор сейчас придумали? Фигурные стельки ещё мой дед вкреплял! Что сапоги на веревочке из экономии носили — враки. Босиком много не пройдёшь. А в сапогах — от Кимр до Москвы, до Питера, от Москвы до Воронежа отмахивали. Я сам от Кимр шёл — две недели. В сапогах ни колючка не страшна, ни торцы, ни болото, ни гадюка — не прокусит. Одного косаря на речке Медведице, что в Тверской губернии, бешеная лисица за икру укусила. И ничего, доктор потом удивлялся, кожа, говорил, на голенище, наверно, дублёная — нейтрализовала.