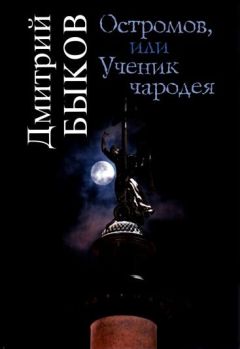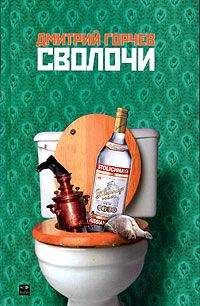Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
А как она ждала, как предчувствовала! Каким горячим предощущением новизны, последнего и главного опыта дышало все, написанное во время голода! Нет, там случались свои провалы слабости — «Никому не нужна ты в этой жизни проклятой, близким и дальним в тягость и жалость… Никто не поверит, все стали как звери — друг другу постылы, жадны и хилы», это было так слабо, как не писала она даже в детстве, стало быть, действительно руки опустились; но тут же, рядом, — «Теперь, среди голых окраин, я колеблема ветром трость. Господи, ты здесь хозяин, я только гость». Это было уже тверже, с сознанием силы, это была организованная речь. Она записывала все, но многое думала уничтожить, а печатать, вероятно, не стала бы ничего — слабое того не стоило, а сильное было так сильно, что не выносить же это ко всем, не превращать в торжище. «А чудеса меж Ним и нами, сверкая, стелятся как мост, и ночь, смотри, зажглась огнями падучих звезд». И все время, чуть не через страницу, — вера, что вот, откроется, через голод, через лютую зиму двадцать первого года — откроется: «Даже ветхие перила раздались, но таинственная сила тянет ввысь». А тянуло — в подвал, и в этом не было никакой выси. Это был не дом и не гора, и тем не менее именно это было подлинное лицо мира. Даня это знал, и ничто не разубедило бы его. Этим и отличались от отцов, все время чего-то ждавших, дети, ничего уже не ждущие. Тут не надо было искать ни света, ни правды. Отсюда стоило искать только выход, и величие учителя было в том, что он этот выход указывал.
Самое ужасное было в том, что мать стыдилась, считала свое поведение недостаточно твердым — раз выпустили, значит, что-то не так. Ее убивало, в сущности, чувство вины: перед ним и перед Валей, которых она привела в такой мир; перед миром, которому не сгодилась ее жертва; перед теми, кого убили, потому что ведь это она не смогла защитить. Насмарку пошло все, и стихов не было, потому что какие же стихи у виноватого перед всеми? Правда, он нашел одно, из которого даже как будто помнил два слова, часто повторявшиеся в декабре прошлого года: меньше обостренности, меньше обостренности… Всякая боль тупеет, нельзя с ней жить вечно — «Видно, это старость, и душа устала. Ближе стали дети, и врагов не стало». Чего-чего, а этого он не хотел, эта примиренность казалась ему еще убийственней вины. Он даже хотел сжечь этот листок, но понял, что не сможет.
Из записок о подвале больше всего понравился ему очерк о Павле Сергеевиче, бывшем путейце. Он был, между нами говоря, дурак. Но в подвале он вел себя превосходно — твердо, гордо, — потому что дураки и путейцы не ведают сомнений; он соблюдал все прежние ритуалы вроде целования рук знакомым дамам, с которыми там встречался, он орал на допрашивающих, и его громовой бас и красный обветренный нос действовали на всех гипнотически. Человек с таким басом и носом не мог быть неправ, он явно имел особые права и уж явно не мог быть замешан ни в чем дурном! И его выпустили, к великому огорчению подвальцев, потому что около него было спокойно, он так гаркал, так выпячивал грудь! После подвала мать встретила его на улице — и поразилась ничтожности, примитиву всего, что он говорил. А чего она ждала? Выносливы либо самые сложные, либо самые простые; несгибаема либо Таня Гольцева, либо уж путейская выправка; будь либо сверх, либо недо, а человеку в нечеловеческие времена делать нечего.
А в последней тетрадке, коричневой, с трактором на обложке, — ждала его одна из тех находок, что подтверждали неслучайность всего: не успел он подумать об учителе, как натолкнулся на попытку записать легенду об ученике чародея. Почему-то мать не стала рассказывать ему дальше, но не забыла, придумала. А с другой стороны — кому рассказывать? Даня был уже большой, а Валька еще мал.
5В этой сказке говорилось о странном: Хасан живет со своей принцессой, бывшей рабыней, а теперь восстановленной в правах владычице северного острова, — и чем дольше живет, тем явственней чувствует иссякание своих волшебных возможностей. Они не то чтобы убывают, а приедаются, и простые чародейские трюки вроде воздушных путешествий или отгадки мыслей уже не радуют его. И когда на острове начинается чума, его чародейских сил уже не хватает, чтобы справиться с болезнью: несколько лет сладкой, сытой, ленивой жизни во дворце убили в нем многие способности, а обычных фокусов вроде путешествий во времени уже недостаточно. Но северная чайка, морская птица, поведала ему, что на соседнем острове живет другой чародей, поистине великий, хоть и таящийся под личиной нищего рыбака; и если Хасан выучится у рыбака главному чародейству, он изгонит чуму. Чума, однако, не дремлет и насылает на Хасана бред: ему кажется, что все люди вокруг стали похожи на его собственную жену, рабыню-принцессу. Вот она хохочет ему в лицо на вымершей улице — он толкает ее и видит, что это безумный нищий хохочет среди мертвых; вот она умоляет его остаться, он всматривается — и видит, что это визирь хватает его за полу одежды. Куда бы он ни пошел, всюду она, и на пристани она преграждает ему путь, чтобы он не посмел взойти на корабль. В ярости бросается он на нее — а когда она, убитая, лежит перед ним на песке, он в ужасе понимает, что эта-то, последняя, и была настоящей. И в ту же секунду эпидемия покидает город, и жалкий рыбак идет ему навстречу по морскому песку: зачем тебе учиться у меня, говорит он, ведь ты уже выучился. Ты и сам отдал последнее, отнял его у себя, и теперь ты подлинно великий чародей: только тот велик, кто обрубил последнюю связь.
Даня задумался. Он не знал, что мать способна на такое. Он, выходит, очень мало знал о тайных метаниях ее души. Может быть, она ненавидела себя за то, что у нее не хватало сил на борьбу, может быть, не могла простить себе того, что выжила в подвале и не отомстила, — но как-то странен выходил путь ее Хасана к чародейству. Он лежал через убийство двух шарлатанов, измену, чуму — и наконец через последнюю жертву, после которой, глядишь, и чародейства не надо. Но в глубине души он понимал, что истинная сила чародея — в отказах, разрывах: они и есть источник подлинной силы, которая не должна тратиться ни на людей, ни на себя. И он почувствовал в этом странную материнскую правоту — так не похожую на ее собственную жизнь. Но судить будут не по тому, как мы жили, а по тому, что мы поняли.
Дочитав, он вышел из дома и долго стоял, глядя на море, — был уже вечер, все клубилось и плавилось, и ровные валики золотистых облаков лежали косо, словно бежали от главной битвы. Морю не было до этой битвы никакого дела. Ему хватало себя.
Даня смотрел на море и пробовал медитировать — он совсем забросил занятия в эти дни, было не до того, покой и равновесие не обретались, и он, верно, сильно отстал от программы кружка. С собой у него был только трактат о трехступенном погружении, с небольшим комплексом упражнений на медитативное сознание. До какого-то момента правила были необычайно просты, издевательски подробны, потом, как всегда, происходил скачок — и начиналось непонятное, все более темное с каждым пунктом. Было легче легкого выбрать тихое и не душное место — вот как здесь, на берегу; приступить к занятиям на рассвете или на закате (как раз закат), ничего не есть за час перед медитацией (не ел с утра), защититься от комаров и москитов (явно писано в Индии — какие у нас в сентябре москиты?). Дальше надо было достичь равновесия — положим, оно и достигалось, легкая предотъездная тревога хоть не до конца, но побеждала расслабленную детскую грусть; и наконец, надо было увидеть ум, то есть не то, что мы видим обычно, а самый ум и явления, происходящие в нем. Это было уже непонятно как. Для облегчения этой практики предписывалось сосредоточенно переплести пальцы рук и держать их на уровне груди. К счастью, смотреть на него было некому: хорош, верно!
О том, какие мантры повторять или песни напевать, в руководстве не говорилось ни слова, но он постоянно напевал про себя идиотское, бессмысленное танго с одной из варгиных пластинок, она и сама иногда его намурлыкивала, нежась, как кошка, на скамейках во время прогулок:
Там, где были при тебе
И флакончики, и склянки,
Украшенья, обезьянки,
Ничего уж нет давно.
Даже зеркало как будто
Потускнело, стало мутно,
Словно плакало оно.
Наша старая гитара
С этих пор уж не звучала,
На стене висит в углу…
Керосиновая лампа
Неохотно разгоняет
Ночь печальную мою…
Ка-а-анчита!
Тебя я ум-моляю,
Тебя я праккк-линаю,
Тебя я прри-ззываю!
Ка-а-анчита!
Хотя б одно мгновенье
Мне подари горенье
Твоих бэзумных глаз.
Он сам не понимал, как эта глупость помогла ему в первой успешной медитации, — но, видно, ум легче увидеть со стороны, когда он занят глупостями; а может, выходить из ума — что и есть главная цель медитации — надо, когда в нем играет надоевшая пластинка; но как бы то ни было, он вышел из ума и перестал мыслить, а только расслышал свежую, внятную и звучную ноту, которую посылало ему море. Эта нота была — прощание; и он слышал с небывалой ясностью, что прощание последнее. Но ничего страшного, ничего особенного. Ведь море оставалось, и он оставался; оно вошло в него так полно, как никогда прежде, и он мог теперь носить с собой это чувство моря.