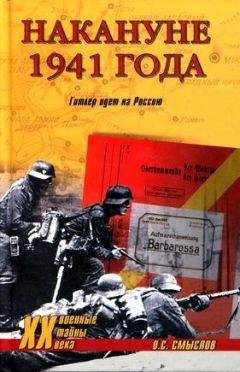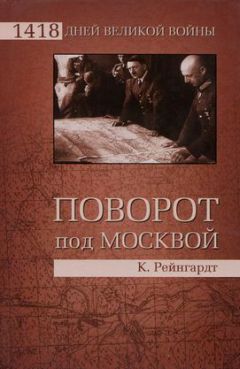Игорь Шенфельд - Исход
Зато потом дело пошло быстро. Никакие дома и сараи, конечно же, никуда не переносились. Домашний скарб и скотина загружались солдатами в военные грузовики, хозяева — в кабину или наверх, под брезент — и адью, родное «Степное». На новом месте переселенцев сразу же вселяли в новые щитовые, так называемые «финские», засыпные домики, специально для них уже собранные там на скорую руку все теми же вездесущими солдатами. Сработаны дома были тяп-ляп, конечно, но разве в этом дело?: люди были просто потрясены великодушием и щедростью родины! Да, у них все отобрали, как обычно — и коня, и полати. Но на этот раз им — впервые! — что-то дали взамен! И не просто что-то: настоящие дома дали! «Все для блага человека!»: этот прекрасный лозунг полоскался белыми буквами на красных полотнищах (и наоборот) по всем городам и селам. Не все этому верили, шутили: «…и человека этого мы все тоже знаем…», а зря смеялись: еще придут времена, и очень скоро, когда лозунги эти исчезнут со стен домов культуры вместе со смыслом, в них заложенным, и даже сама постановка вопроса о благе человека будет звучать курьезно, аки старославянские буки-веди…
«Где, в какой другой стране мира заботятся о своих трудящихся лучше, чем в Советском Союзе?», — этим истерично радостным вопросом партийные власти приветствовали переселенцев на новом месте, в совхозном Доме культуры, украшенном по этому случаю лентами, плакатами и гирляндами, и переселенцы с глазами, полными слез громко аплодировали выступающим… Никто из них не знал — в какой стране заботятся лучше, потому что ни один из них в другой стране мира отродясь не бывал; разве что бывший кладовщик «Степного», который закончил войну на территории Польши, но и там о нем заботились после ранения из рук вон плохо, так что он был полностью согласен с оратором: нигде не лучше! И тоже плакал. Об истинном содержании, о причине этих слез репортеры не спрашивали: им важен был крупный план — не для Истории, нет: для передовицы в утренней газете, ради возбуждения в народе встречных слез еще сегодня — слез благодарности Родине, Партии, социалистической отчизне и лично дорогому товарищу… — далее по конъюнктуре политического момента: кому лично — это можно было легко узнать по портрету стене в любом чиновном кабинете.
Счастье въехать в новый отдельный дом постигло, впрочем, не каждого из переселенцев: одинокие люди — старики, бобыли и бездетные вдовы были поселены вдвоем-втроем, с обещанием расселить их по мере строительства следующих домиков. Чего, как все понимали, в ближайшем тысячелетии не ожидается, ибо солдаты-строители исчезли, а кому же еще строить?
Рукавишников с сыновьями и семья Бауэров также получили один дом на всех, правда двойной, на две квартиры, шесть комнат в сумме, с отдельными входами с разных сторон дома. Рукавишников вышел из своей половины почти сразу как вошел, сплюнул, посмотрел на небо, сказал «конура». Да, конечно, в сравнении с его прежним бревенчатым домом в Степном это была хижина из щепок, а не дом. «А, мне сойдет! — махнул рукой Рукавишников, — все равно ненадолго…». Судя по тону, он имел в виду нечто нехорошее, однако улыбался, проговаривая это. Ульяне веселость отца представлялась подозрительной, она не верила в нее, и в Ульяне поселилась постоянно растущая тревога за отца.
На половине Бауэров было так: мать получила свою комнатку, Спартак — свою, и Аугуст с Ульяной — свою, самую большую. А самую большую, кроме всего прочего и потому еще, что нужно было предусмотреть место для детской кроватки: их ждало в ближайшее время великое событие: рождение ребенка. Аугуст от волнения иногда не мог спать ночью, и осторожно ощупывал Ульяну, как механик ощупывает проблемный, агрегат в машине, который может не сработать.
Но все сработало как надо, и у Бауэров появилась чудесная малышка Людочка: в память о бабушке — Улиной матери. Людмила Августовна Бауэр. Радости в доме Бауэров-Рукавишниковых не было предела; лишь семилетний Спартак воспринял это событие как личную драму, молча переживая постигшую его второстепенность в системе мироздания. Но он считал себя самураем и воспитывал в себе презрение к нежным чувствам любого рода. А вот Амалия Петровна Бауэр — бабушка Амася — была на седьмом небе, и даже о Волге своей вспоминала теперь не каждый день: весь окружающий ее мир замкнула на себя и поглотила маленькая внучка. При каждом удобном случае она напрашивалась понянькаться, чтобы Уля могла поспать и отдохнуть, и Аугуст слышал, как мать в своей комнатке напевает крохотной внученьке немецкую колыбельную песенку: "Auf der Wand, auf der Wand sitzen zwanzig Fliegen…". Аугуст улыбался во весь рот и любовался спящей Ульяной — своей драгоценной королевой, подаренной ему Богом за что-то, чего он может быть даже и не заслужил вовсе, но еще обязательно заслужит; заслужит любовью своей к ней, и к дочке, и к приемному сыну, и к матери, и ко всем людям, с которыми он идет рука об руку по жизни, которые приняли его, уважают его, и которых уважает и любит он сам… От избытка чувств Аугуст часто-часто моргал в светлую, теплую темноту комнаты, в которой таинственно мерцал отсвет заснеженного двора и дальних, дальних гор.
Даже дед Иван нашел себе на какое-то время в лице маленькой внучки отдушину от мрачных мыслей о собственной невостребованности и о полном крахе всей своей жизни (его должность зама по животноводческому подразделению на новом месте, как и предрекали мстительные партийцы, просуществовала недолго: в скором времени ее упразднили из экономии средств). Рукавишников, по существу, остался не у дел. Но теперь, став заново дедом, он по сто раз на день забегал на половину Бауэров, топил печь, колол дрова «в запас», осведомлялся о состоянии малышки, баюкал ее, и абсолютно не напоминал при этом того, былого, «железного», стремительного председателя Рукавишникова, похожего на комдива Чапаева. Он внутренне надломился, это было видно, это больно было видеть, но никто ничего поделать с этим не мог, да он и не позволял никому лезть себе в душу. Он предпочитал теперь уединение, читал книги из своей богатой библиотеки и ни на какие собрания не ходил больше. Потом он начал как-то незаметно попивать, тихо, в одиночку, а весной пятьдесят седьмого года запил уже крепко, перестал ходить на работу, завел себе удочки и пропадал на рыбалке, порой по несколько дней подряд. Иногда его обнаруживали где-нибудь в овраге — со снастями в обнимку. Уля была в отчаяньи, но даже ее протесты, мольбы и призывы ничего не меняли больше. Иван Иванович ушел весь в себя и возвращаться оттуда не собирался. Такого режима жизни ему хватило еще на три года. И было ему — горько сказать! — всего-то пятьдесят шесть годов возраста, когда его нашли однажды на берегу озера мертвым, умершим от обширного инфаркта миокарда. Теплых слов на его могиле говорили много, но говорили все простые люди — его колхозники. Партия, доблестным и железным солдатом которой он был три десятилетия, не прислала даже соболезнования.
Зато мать Аугуста Амалия Петровна собралась жить долго, и это было хорошо: она как будто молодела с каждым годом и была полна энергии. Тоска по родине, точившая ее все эти годы, как будто отпустила ее, она перестала выписывать газету «Правда» и ждать справедливости и обрела, кажется, покой наконец. И хотя малый червячок все равно точил дальше — теперь уже привычно и не слишком болезненно точил он постоянно сердце и Аугусту — но житься им двоим здесь, в Казахстане, стало много легче. Хотя бы уже потому только, что все стали постепенно отвыкать от зловещего звучания слова «немец»; уже шли целинные годы, и всем было наплевать, откуда ты и какого роду-племени: новая всеобщая национальность называлась тут теперь «Целинник».
Жизнь крутилась беличьим колесом, и то катилась накатом, то буксовала порой, наполненная бесчисленными сиюминутными заботами, и за пределами этого колеса ничего как будто и не существовало: все было предельно конкретно и необходимо, и каждодневность незаметно сливалась в недели, месяцы и годы. Годы счастливой, в общем-то, жизни, которая всегда так — слишком — быстро улетает в прошлое. Ведь счастливые годы никто не считает. Они незаметно крадутся мимо, растворяясь в череде обычных дней, наполненных обычными делами, и дни эти даже торопишь порою — до зарплаты, до праздников, до прихода лета, до дня рождения, до окончания школы: мало ли поводов у человека подстегивать время по счастливому недомыслию молодости. Каждый торопит и подстегивает время — вот оно и летит без оглядки. А когда эта оглядка наступает, то приходит недоумение: неужели столько лет прошло? Когда? Куда они провалились, все эти года — в какую бездну? И вот однажды приходит вдруг понимание, что пролетевшие годы — даже самые тяжелые из них — были, оказывается, самыми счастливыми, самыми лучшими годами жизни. Хотя бы потому уже, что жила в них молодость с ощущением бесконечности, безбрежности жизни: счастливая иллюзия, живущая радостным воспоминанием о счастливой молодости — даже если молодость та и не была вовсе такой уже розовой и безоблачной.