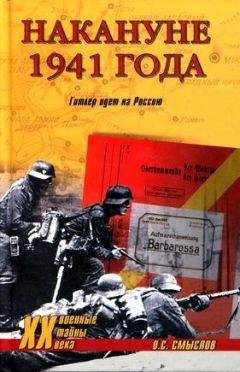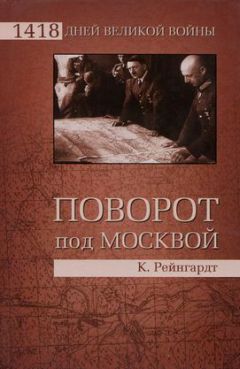Игорь Шенфельд - Исход
— Товарищи, с учетом открывшихся научных и медицинских обстоятельств, ответственной комиссией министерства здравоохранения сделано заключение о невозможности проживания для людей и домашних животных в зонах, прилегающих к районам испытания современных изделий оборонного назначения, каковым является, в частности, и поселок «Степной». В связи с этим на уровне Правительства принято решение и подписан Указ об эвакуации вашего поселка, равно как и еще десятка таких же, в другие, более безопасные места. Земли вашего хозяйства будут переданы под юрисдикцию министерства обороны и за счет них будет расширен ареал испытательного поля.
Что касается колхоза «Степной», то он считается с сегодняшнего дня расформированным на основании решения Правительства: для этого, как Вы понимаете, вашего общего голосования не требуется: Партия и Правительство — для вашей же пользы — проголосовали за вас. Считайте, что это — большая честь для вас всех. Ваше хозяйство ликвидировано, однако, в качестве производственного потенциала оно не исчезнет, а будет влито в состав зерносовхоза «Озерный» Павлодарской области и станет животноводческим подразделением «Озерного». Так что все вы, здесь присутствующие, дружной семьей, как и прежде, будете трудиться дальше, единым коллективом, все вместе, на благо нашей великой социалистической Родины. С этой большой победой я вас от всей души и поздравляю! — и первый секретарь, поддержанный членами президиума, захлопал сам себе.
Народ, однако, ничего не понял. Как это: эвакуироваться? Как это — взять и колхоз перенести? Ничего себе — цирк! Это как: корова наперегонки с силосной башней в «Озерный» побежит? А луну нашу тоже перевесите в Павлодарскую область? Ничего себе: перенести! А школа? А овчарни? А дома? А сараи? А колодцы? А фермы?
Шум нарастал и скоро перешел в сплошной рев, в котором одновременно выкрикиваемые вопросы тонули в воплях типа: «Никуда я не поеду!» и «Желаю в родном доме подохнуть, а вы там хоть тыщу лет в Павлодаре вашем дальше живите!».
Поднялся с места районный прокурор, достал из портфеля судейскую киянку, сдвинул скатерть, оголил стол и вдарил по древу. Получилось звонко и неожиданно, и зал стих перед лицом главного ударного инструмента советской Фемиды.
— Слово имеет военком! — объявил прокурор. Тот вскочил как пружина, наклонился вперед всем корпусом тела — только сабли в руке не хватало — и закричал, как в рупор:
— Прекратите эти бессмысленные протесты! Сопротивление бесполезно! Границы полигона расширены на тридцать километров! Ваши угодья уже сегодня, уже сейчас являются частью полигона! Поэтому уже сегодня, уже сейчас получается, что вы все находитесь на этой территории незаконно, и обязаны ее покинуть! Но вам для этого дается время! И будут выделены армейские подразделения для оказания помощи в эвакуации, то есть, я хотел сказать — в переселении на новое место жительства! Поэтому еще раз повторяю! Спокойно! По графику, исполнение которого поручено исполнять мне лично! Будете приходить в вашу бывшую контору, где я буду с завтрашнего дня ежедневно находиться с восьми-ноль-ноль до девятнадцати-ноль-ноль! Там будет на стене висеть график! И будем осуществлять переселение! Все! И еще раз повторяю: протесты к рассмотрению не принимаются! Сопротивление бессмысленно!..
«… Вы окружены! Всем выходить с поднятыми руками. По одному!..»
— …Это кто крикнул? Это кто только что крикнул про окружение, я вас спрашиваю? — выскочил военком на край сцены, вглядываясь в зал. Он был страшен. Его испугался бы в этот миг сам Александр Васильевич Суворов, который не боялся даже турок. Испугался и народ. Но молчал.
— Что, молчите, граждане?… Так, ладно: после разберемся, никуда вы не денетесь… А теперь идите собираться. Эвакуация, то есть переселение начинается завтра! — и военком одернул гимнастерку и шагнул в сторону выхода. Делегация начальства потянулась за ним. Снаружи загудели моторы, и власть отбыла.
Все повернулись к Рукавишникову: «Иван Иваныч, как же так? Чего молчишь? Чего ты им не возражаешь?».
Рукавишников впервые в жизни стоял перед своими людьми растерянный и разводил руками: «Вот так вот, люди добрые, вот такие вот дела… Конечно, что сказать… Дальше жить в этой радиации нам нельзя — тут как ни крути… сколько людей уже умерло, дети будут умирать дальше… нельзя этого допустить. Так что решение о переносе хозяйства — правильное. Надо переезжать. Хотя и тяжело. Мне тоже тяжело. Вся жизнь тут… Ничего не поделаешь: такое нам с вами «везенье» выпало. Зато Родина — с надежным щитом над головой, и мы как бы помогали этот щит создавать, землю свою предоставили для этого, солдат кормили. Да нечего тут философствовать: что случилось — то случилось. И решение правительства — правильное. Пошли собираться…».
После этого все пришло в брожение. Одни укоряли Рукавишникова за его «пасхальные фокусы», другие кричали, что никуда не поедут, третьи плакали, кто-то составлял письмо лично Хрущеву, иные призывали идти немедленно и спалить контору, чтоб негде было военкому сидеть с его графиком; некоторые, опять же, уговаривали друг друга опомниться и не кипятиться; более здравые умом люди сидели и гадали, как же это будут их дома перетаскивать, ужасаясь, что в пути все попадает и поломается; многие предрекали, что на новом месте будет еще хуже, чем здесь: просто так предрекали, из элементарного опыта жизни.
Иные пессимисты, однако же, злорадно возражали: «А что на новом месте? Подумаешь — на новом месте! Хуже там все равно не будет! Хуже бывает только в аду!». Но то — пессимисты: тем и в раю — ад, так что их никто не слушал: основная масса глубоко и безутешно горевала. И лишь один тонкий голос воспел над толпой:
— Да кончайте вы вопить, люди добрые! Детей же наших спасаем, которые еще живы! Тут же — погибель сплошная — неужто не понимаете? — то была молодая колхозница Анна Шигамбаева — мать девочки, умершей от радиации. У нее оставалась еще одна дочка десяти лет.
Этот крик как-то разом угомонил всеобщую ярость. Зал вообще стих вдруг, и кто-то спросил глуповато:
— Дак и шо теперь?
— «Дак шо», — передразнил кто-то другой. Дак отвальную празновать! — а што нам еще остается?
— Пра-а-вильна! Бабушка! Матрена Пантелеевна! Янычариха! — мать твою через полено… выкатывай запасы давай! Народ гулять будет! Поминки будем справлять по колхозу «Степное»…
И двадцать добровольцев, а то и больше, двинулись вместе с Янычарихой к ней домой, чтобы притащить в клуб все стратегические запасы великой мастерицы и достойно встретить грядущие испытания, всем вместе, одной большой семьей в этот воистину апокалипсический час, пробивший для жителей «Степного».
Через полчаса возбужденная процессия, похожая на крестный ход во главе с широко крестящейся колхозной бабушкой-умелицей прикатила в клуб тележку с двумя сорокалитровыми молочными флягами. Сюда же, в клуб, стекалась уже со всех дворов еда из амбаров, и гармошка была уже тут, и гармонист уже орал свежеиспеченную частушку: «Тот глушеный, тот хромой: расселяется «Степной»! Удивляйся, Павлодар: едит ядерный удар!».
И разразилась массовая пьянка — то ли отвальная, то ли поминальная, которая, достигнув невиданного и неслыханного накала страстей — слезных, злобных, отчаянных — всяких вперемежку — шумела до самого утра. Это был праздник, посвященный концу света, который на самом деле давно уже начался, если кто случайно не заметил…
Когда на следующее утро подполковник Лузиков Николай Николаевич — районный военком — заступил на обещанное дежурство, он решил, что над поселком ночью и впрямь взорвалась неплановая атомная бомба, про которую накануне пресекались глупые слухи: дома, правда, стояли на своих местах, но вот люди — нет: никто не стоял. Все лежали. Лишь некоторые все еще ползали по кругу с кружками, что-то нашаривая перед собой, и натыкались на тех, кто ползти уже не мог.
Переселение пришлось отложить поэтому на два дня, потому что невозможно было определить кто есть кто на этом поле мертвых — настолько похожи были друг на друга все эти опухшие рожи — что русских, что казахов, что «смешанных национальностей» — как бы выразился Серпушонок, будь он жив. А ведь Серпушонок наверняка с величайшей завистью наблюдал сейчас с небес за происходящим в его родном селе и проклинал подлую змею, лишившую его этого коллективного, и что самое главное — бесплатного удовольствия.
Зато потом дело пошло быстро. Никакие дома и сараи, конечно же, никуда не переносились. Домашний скарб и скотина загружались солдатами в военные грузовики, хозяева — в кабину или наверх, под брезент — и адью, родное «Степное». На новом месте переселенцев сразу же вселяли в новые щитовые, так называемые «финские», засыпные домики, специально для них уже собранные там на скорую руку все теми же вездесущими солдатами. Сработаны дома были тяп-ляп, конечно, но разве в этом дело?: люди были просто потрясены великодушием и щедростью родины! Да, у них все отобрали, как обычно — и коня, и полати. Но на этот раз им — впервые! — что-то дали взамен! И не просто что-то: настоящие дома дали! «Все для блага человека!»: этот прекрасный лозунг полоскался белыми буквами на красных полотнищах (и наоборот) по всем городам и селам. Не все этому верили, шутили: «…и человека этого мы все тоже знаем…», а зря смеялись: еще придут времена, и очень скоро, когда лозунги эти исчезнут со стен домов культуры вместе со смыслом, в них заложенным, и даже сама постановка вопроса о благе человека будет звучать курьезно, аки старославянские буки-веди…