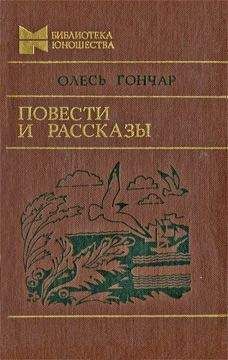Баловни судьбы - Кристенсен Марта
— Да у нас уже челюсти сводит!
— Да, да. — Она глядит в окно. — Я ли вас не понимаю! Знать бы, что вас всех ждет, а, Рейнерт? Всех ребят с нашей улицы?
— Как это, что нас ждет? — удивляюсь я. — Что-нибудь да ждет, не одно, так другое. Ты это про что?
— Да вот. — Она кивает на окно. — Там ведь чисто джунгли. В домах-то у всех и цветные телевизоры, и стиральные машины. А на улице — чисто джунгли.
— Ага, — смеюсь я, — наша с тобой стиральная машина — это в основном я.
— Тебе грех жаловаться, Рейнерт, — говорит мамаша. — Я знаешь о чем думаю? До чего ж красивым мне показался город, когда я сюда приехала. Он и сейчас такой. Красивый. Только он еще и холодный, и жестокий! Зря я с тобой тут осталась. Тебе бы расти где-нибудь, где поменьше асфальта да побольше травки.
— Брось, — обрываю я ее. — Теперь что об этом толковать.
— Знаю, теперь толковать поздно. — Она проводит рукой по волосам, они у нее темные и блестящие. — Да ведь экое безобразие, как они обошлись с тобой и с Карлом Магнаром. Меня это просто убило. Экое безобразие!
— Ясное дело, безобразие! Это ты верно говоришь. Только город тут ни при чем, я так считаю. Город не виноват. Виноваты люди, которые в нем живут. Вот они-то — при чем.
— Тяжеленько вам придется, — задумчиво говорит мамаша и все водит рукой по своим темным волосам.
— Ничего, крепче будем, — улыбаюсь я.
— Дай-то бог, — говорит она и пожимает мне руку. — Ну, спать пора. Я мою чашки, а ты убери со стола.
13
Самые лучшие дни — это когда мы с Сири встречаемся поcле работы. Тогда я хожу и считаю минуты. Тогда Свеннсен может лаяться хоть до посинения, меня это не трогает.
С того вечера в молодежном клубе проходит не один месяц, прежде чем она сдается. Она все время словно колеблется и говорит, что не чувствует уверенности.
— Какой еще уверенности? — спрашиваю я.
— Не притворяйся глупее, чем ты есть, — отвечает она и вскидывает голову.
Тут я пас, от ее манеры вскидывать голову у меня дрожат коленки и шумит в ушах.
— А как ты можешь быть уверена, пока не попробуешь?
— Что же я, по-твоему, делаю все это время, если не пробую? — спрашивает она.
Так мы и тянем. Она много рассказывает о своей жизни: как ее папаша однажды спьяну расколотил всю мебель у них в гостиной, как он тиранил ее мать и братьев. Но в детстве они с восторгом слушали его рассказы о морской жизни — в молодости он много плавал. Рассказывает она и о своей работе, о всяких там чудиках, что приходят к ним в магазин, у нее масса таких историй. Сири часто смеется, смех у нее начинается где-то внутри и постепенно поднимается, пузырится, словно газ в только что откупоренной бутылке. Она может быть грустной, скучной, притихшей, какой угодно, но едва она вспомнит что-нибудь смешное или решит, что я чересчур неуклюж или сказал что-то забавное, она разом меняется. Любой пустяк может насмешить ее до слез. И я тоже смеюсь, чтобы не выглядеть дураком. Хотя и не привык столько смеяться.
Но главное, она очень твердая и самостоятельная. Мне еще ни разу не встречалась девчонка, которая была бы так в себе уверена. Однажды мы с ней куда-то вместе ходили, вдруг она уставилась на меня огромными темными глазищами и вроде задумалась о чем-то. А потом говорит: — Можешь пойти ко мне ночевать. Если хочешь, конечно. Только помни, тихо, без шума!
— Правда? — удивился я. — А хозяйки ты не боишься?
— Я ее предупредила, — говорит. — А ты своей матери не боишься?
Я строю ей рожу. Мы поднимаемся к ней, и дальше все продолжается в том же духе. Когда мы садимся на тахту, она первая начинает расстегивать мне рубаху, расстегивает, а сама шепчет:
— Понимаешь, сижу я сегодня в кассе, выбиваю за овощи и вдруг чувствую, что мне к тебе хочется!
Вон оно что, овощи! Я чуть не упал. Овощи! Сири сама краснеет и смущается. По-моему, на деле она вовсе не такая смелая, какой хочет казаться, но все равно, притворяется она классно. Сири поднимается и ставит кассету со старыми роками. Потом подходит к зеркалу и резкими взмахами причесывает непослушные светлые волосы.
— Терпеть не могу ребят, которые думают, что им ничего не стоит затащить девушку в постель! — бросает она мне в зеркало.
Я молчу, сижу, потягиваю колу, которую она мне сунула.
— Мы теперь уже не такие дуры, ясно? Не думайте, что у нас котелки совсем не варят!
Тут она начинает снимать блузку. И все время глаза ее в зеркало следят за мной.
— Ты тоже разоблачайся! Нечего сидеть и пялиться на меня! Здесь тебе не погребок со стриптизом!
Я не спорю, делаю, что велят. Музыка меняется, а с нею и Сири, она начинает танцевать.
— Вот, — говорит она. — Это как раз для тебя, Тарзан с Бойни!
Some people say a man is made out of mud
But I say he’s made out of muscles and blood[21]
— Давай, Рейнерт! Идем танцевать!
— Послушай, а как же твоя хозяйка? Ты не боишься?
— А ее нет дома! Я уже посмотрела!
I was born one mornin’
When the sun didn’t shine
I picked up my shovel
And I went to the mine
I loaded sixteen tons
What do you get?
Another day older
And deeper in debt[22]
— Держись свободней, не надо так напрягаться. Расслабься, когда танцуешь!
И так далее, и тому подобное. И ей кажется, будто это она мной командует. О’кей, о’кей, думаю. Пожалуйста, если тебе так нравится, я не против!
Когда мелодия медленная, Сири прижимается ко мне, когда она сменяется быстрой, Сири вихрем носится по своей узкой комнатухе. Теснотища жуткая, мы даже стулья кладем на кровать, чтобы освободить себе место. На ленте одни только старые танцы, кассета досталась ей от брата, ушедшего в армию, объясняет Сири. Когда мы вконец упарились, она предлагает играть в жмурки, завязывает глаза мне, а я — ей, потом мы гасим свет, и она начинает меня искать.
— А ты подавай голос, — просит она все время. — Голос подавай.
Загребая руками, мы кружим по комнате, и всякий раз, как я слышу ее рядом, я норовлю увернуться. Довольно долго мне это удается, но вот она хватает меня за штанину. И мы вместе летим на пол. Там-то, на полу, все и происходит. Больше она не противится, верно потому, что считает все это своей затеей. Ей до чертиков хочется быть самостоятельной, больше всего на свете она боится, что ее облапошит какой-нибудь парень. Неважно кто, так мне по крайней мере кажется. Но настроение у ибо меняется мгновенно, за ней не поспеть. Сперва наше объятие больше смахивает на драку. В темноте, на полу, Сири ведет себя, как дикая кошка: рвется, царапается, кусается. Красивый у меня был видик после этого — царапины, следы зубов и уж не знаю, что там еще. Но вот она перестает драться и крепче обнимает меня.
— Рейнерт! — шепчет она. — Рейнерт!
Ее тело то напрягается, как стальная струна, то делается мягким, нежным, податливым. Чудна́я девчонка! Уж если она отдается, то вся целиком, без остатка.
— Ты хороший, — бормочет она потом.
Я молчу. Она совсем сбила меня с толку, эта Сири, я и слов-то найти не могу. Зато замечаю, что теперь мы стали вроде еще ближе друг другу, мы вроде напали на верный путь. Ведь любовь — все равно что джунгли! Ищешь дорогу вслепую, и нет у тебя никакой карты. Мы зажигаем свет, устраиваемся на кровати и болтаем. Увидев, как я разукрашен, она смеется, потом краснеет до слез.
— Небось считаешь меня сумасшедшей? — спрашивает она. — Я ведь не нарочно.