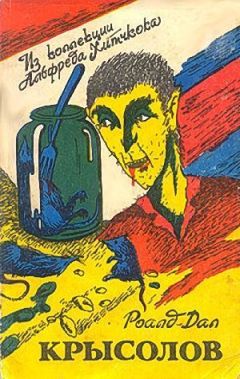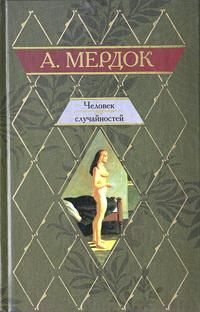Айрис Мердок - Монахини и солдаты
В следующую секунду сообразительная, чуткая Анна все поняла. Гертруда заключила с Графом любовное соглашение. Теперь ему ни к чему ни чувствовать себя несчастным, ни уезжать. Он останется при ней ее обожателем, поощряемый ею. Тим возражать не будет. Гертруде это ничего не стоило. Она распорядилась им походя, как бы между прочим. Ей нужно было лишь вытянуть руку, лишь тихонько свистнуть. То малое, что она даст Питеру, для него будет достаточно, и даже много. Он смиренно примет все, что она милосердно уделит ему. Вероятно, все, что ему требовалось, — это чувство, что он необходим ей, он готов жить и этим. Немножко чар, и умная участливая Гертруда осчастливила его. Она всегда ценила его любовь и не видела причины, почему бы не пользоваться ею и дальше, всегда.
Анна отвернулась. Они не видели ее. Она заставила себя сдержать подступавшие слезы. Теперь надо незаметно выскользнуть из квартиры и отправиться домой. Никто не заметит ее ухода.
Неожиданно она увидела перед собой Манфреда.
— Привет, Анна. Еще шампанского? Где ваш бокал?
— Спасибо, но мне нужно уйти.
— О, не уходите. Вы хорошо себя чувствуете? Вид у вас немного…
— Легкая мигрень, и только. Пойду домой и прилягу.
— Так вы мучаетесь мигренью? Я тоже. Только у меня есть чудодейственные таблетки…
— Я должна идти.
— Анна, позвольте отвезти вас. Вы действительно неважно выглядите.
— Ничего, я в порядке. Большое спасибо, но прогулка мне поможет.
Она была уже у двери.
Тут ее перехватила Гертруда.
— Манфред говорит, у тебя разыгралась мигрень, не уходи, приляг здесь.
— Благодарю, нет, дорогая. Мне нужен свежий воздух.
— Я хотела поговорить с тобой, только сейчас не получится. Приходи завтра к ланчу, хорошо? Никого не будет, только мы с тобой.
— Приду. Завтра буду нормально себя чувствовать.
— Ну, выздоравливай, дорогая моя, дорогая. А ты знаешь, что кое-кого тут совершенно покорила? Нед Опеншоу говорит, что влюбился в тебя! Привет, Мозес, очень рада, что смог выбраться!
— Слыхала новость, Гертруда?
— Какую новость?
— О новом Папе! Он поляк!
— Да неужели? Новый Папа?
— Слушайте, Мозес говорит, что новый Папа — поляк!
— Быть этого не может!
— Скорее, скорее, скажите Графу!
— Где Граф? Новый Папа — поляк!
— Граф, Граф, послушайте, новый Папа…
— Ура! Новый Папа поляк!
— Как замечательно! Граф, слыхали?
— Да здравствует Граф, поздравим Графа!
— Тост за Графа!
— Только посмотрите на его лицо!
— Да здравствует Польша, да здравствует Граф!
— А ну-ка, трижды…
Ведь он отличный малый,
ведь он отличный малый,
ведь он отличный ма-а-лый,
мы это знаем все![139]
— Ты слышала, как они пели «Ведь он отличный малый»?
— Да, — сказала Анна. Спускаясь по лестнице, она слышала, как раздалась песенка.
— Питер просто обезумел от радости.
— Правда?
Они с Гертрудой завтракали в столовой на Ибери-стрит.
— Я теперь зову его Питером, — сказала Гертруда. — Стараюсь привыкнуть. И постепенно приучу к этому всех вас. Думаю, пора, чтобы он стал для нас Питером. Очень сомневаюсь, чтобы ему когда-нибудь нравилось, что его называют «Граф». Еще сыру?
— Спасибо, нет.
— Анна, ты ничего не ешь. Уверена, что мигрень прошла?
— Да, конечно.
— Манфред говорит, что у него есть какие-то чудо-таблетки.
— У меня тоже есть свои чудо-таблетки. Я в порядке. Спасибо за заботу.
— И у тебя еще не прошел ожог на руке.
— Нет, это уже другой.
— Надо беречься. И вообще ты нескладеха.
— Со мной все в порядке.
— Нет, если постоянно это повторяешь. Смешно, опять ходишь в том же сине-белом платье, в котором приехала из монастыря. Столько с тех пор всего произошло.
— Да.
— Как замечательно вышло с новым Папой. Я так довольна. Это хороший знак, дыхание надежды. Ты согласна?
— Согласна.
— Стэнли говорил… а, не важно, что он говорил. А Граф, его было просто не узнать. Я страшно рада, что мы услышали новость как раз в этот день на вечеринке.
— Да, приятно. Все поздравляли его.
— Как все хорошо, больше нечего желать. Боже, храни Питера, Боже, храни Польшу, Боже, храни Анну! Ну-ка, до дна!
— Я пью.
— Нет, не пьешь. И возьми еще сыру или вот яблочко — божественное.
— Спасибо, не хочу.
— Я должна тебе кое-что сказать относительно Графа, то есть Питера.
— И что же?
— Кстати, я очень признательна тебе за то, что ты заботилась о нем ради меня. Он говорит, ты уговаривала его не отчаиваться. Держала его за руку, как священник.
— Я не держала его за руку.
— Ну, фигурально выражаясь. Он невероятно благодарен за святое женское милосердие.
— Это было нетрудно.
— Мы оба невероятно благодарны. Мне следовало раньше сделать что-нибудь для него, только…
— Ты была слишком занята.
— Да, столько всего происходило. Но должна предупредить, я никому ничего не говорила, кроме, естественно, Тима. Я почувствовала, что не могу оставить Графа одного и в печали. Тим согласился, что нужно вовлечь его.
— В семейный круг?
— Даже больше. Ты знаешь, ну, это не секрет, все знают, Гай знал, что Граф отчаянно влюблен в меня.
— Знаю, конечно.
— Нет, надо звать его Питер. Так вот, Питер был, да и сейчас отчаянно влюблен в меня. Но прежде мы никогда не говорили об этом, просто понимали это.
— Безусловно.
— И разумеется, когда я овдовела, как ему было не надеяться?
— Действительно, как?
— А потом был Тим.
— А потом Тима не было…
— Да. И я знаю, Питер очень страдал, и надеялся, и страдал, и не мог выносить это дальше, и решил, что уедет в Ирландию.
— В Ирландию? — удивилась Анна. — Мне он этого никогда не говорил.
— Он очень скрытен. Почти ни с кем не делится. Мне он признался, что собирался в Белфаст и надеялся, что какой-нибудь террорист убьет его там!
— Он тебе такое сказал?..
— Да, после вечеринки, но, конечно, к тому времени он передумал! В любом случае я не могла предоставить его самому себе. Куда он мог бы пойти, к кому, разве он об этом думал? Кроме меня и нас, у него никого нет. Только он такой несчастный, такой гордый, такой молчаливый, и в нем столько польского. Думаю, он действительно хотел уехать куда глаза глядят, зачахнуть там и умереть. Я не могла позволить ему сделать это, разве могла?
— Нет, конечно.
— Он странный человек, с ним невероятно трудно найти общий язык. Ты знаешь, как человек может быть близок другому и все же быть неспособным на откровенность…
— Знаю.
— Я, наверное, так и не смогла бы пробиться к его душе, если бы он не сделал первый шаг.
— И он его сделал?
— Да, во Франции. Знаешь, в тот период, когда тебе было так отвратительно, я довольно долго была там с ним одна… и как-то вечером он на секунду взял меня за руку… какое это было достижение! И пробормотал, что любит меня. Это был один-единственный миг, но он все изменил.
— Как ты когда-то сказала, тебе достаточно четырех секунд, чтобы изменить мир.
— Точно. Он думал, что это мгновение было бесследно стерто последующими событиями, но нет, не было. Оно проделало щель, сквозь которую я могла говорить с ним.
— Приманить и привлечь.
— Да. Вероятно, я все равно добилась бы этого, просто понадобилось бы больше времени, чтобы придумать способ.
— И что теперь?
— Теперь… видела, какой он был вчера вечером? Даже еще до новости о Папе! Чаша его радости преисполнена.[140] Я сказала ему, что думаю о нем, люблю его и что ему не нужно переставать любить меня. Он абсолютно счастлив.
— Прекрасно. И думаешь, это долго продлится?
— Да, могу поручиться.
— Тима это не будет смущать?
— Нет, конечно нет. Потому-то это и стало возможным. Тим и я… мне трудно объяснить, это так сложно… к тому же, как тебе известно, уже проверено на опыте. Я могла выйти только за Тима… и никогда за Питера… сейчас я это понимаю. Тим знает, что ему совершенно нечего опасаться, и он, по его собственному признанию, очень любит Питера. В прошлом Питер был исключительно добр к Тиму.
— Значит, ты ручаешься, что вы все сможете быть счастливы?
— Не вижу причины, почему не быть! Когда человек в счастливом браке, он волен любить других и быть любимым ими. Я теперь далеко не так строго смотрю на это, намного шире, чем прежде, и в некотором смысле Тим помог мне стать более свободной в том, что касается чувств.
— Вот ты и подумала, почему бы не любить и Питера тоже?
— Да. То, что я не любила Питера и он страдал от этого, было единственным, что омрачало мое счастье, и я подумала, отчего бы не стать окончательно счастливой и не сделать счастливым его. И мне было не все равно, что он думает…