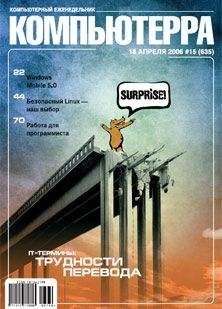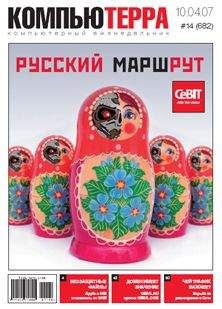Иэн Макьюэн - Искупление
Меня подвели к креслу в первом ряду. Рядом со мной оказался старик Пьеро, разговаривавший с кузиной, сидевшей слева от него. Суматоха постепенно улеглась, и наступила почти полная тишина, если не считать доносившегося из угла возбужденного детского шепота, на который я сочла неделикатным обращать внимание. В те несколько секунд, что длилось ожидание, воспользовавшись временным отсутствием внимания к себе, я огляделась по сторонам и только теперь увидела, что все книги были убраны из библиотеки вместе со стеллажами. Так вот почему комната показалась мне намного более просторной, чем я ее помнила. Единственным чтивом здесь были теперь местные журналы в подставках возле камина. Под шиканье и скрип стульев перед нами появился мальчик в черном плаще, накинутом на плечи. Он был бледнокожим, веснушчатым и рыжим — типичное дитя рода Куинси. Лет ему было девять-десять. На хрупкой фигурке эльфа — огромная голова, что делало его облик неземным. Однако мальчик уверенно окинул взглядом комнату, ожидая, когда аудитория угомонится, потом вздернул свой миниатюрный подбородок, набрал воздух в легкие и заговорил чистым дискантом. Я подозревала, что меня ждет какой-то забавный сюрприз, но то, что я услышала, прозвучало едва ли не мистически:
Вот рассказ о гордой Арабелле,
Убежавшей с негодяем смело.
Мать с отцом рыдают безутешно:
Дом родной так спешно и так грешно
Первеница бросила…
Далее шел рассказ о мытарствах Арабеллы в Истбурне, где она, покинутая жестоким возлюбленным, оказалась без гроша и смертельно заболела. И вдруг перед моим мысленным взором отчетливо возник образ той педантичной, самоуверенной, скрытной девочки, которая, видимо, не исчезла без следа, потому что, когда благодарные зрители на рифме «спешно — грешно» прыснули, мое слабое сердце — смешное тщеславие! — чуть екнуло. Мальчик декламировал стихи трогательно чистым и звонким голоском, с которым немного диссонировал легкий просторечный выговор, в моем поколении называвшийся кокни, хотя я понятия не имею, что означает этот твердый приступ на месте пропущенного звука «х» в наши дни. Я понимала, что слова — мои, но почти не помнила их, и мне было трудно сосредоточиться из-за массы вопросов, теснившихся в голове, и обуревавших меня чувств. Где они нашли рукопись? Была ли надмирная самоуверенность декламатора знамением новой эпохи? Я взглянула на своего соседа Пьеро. Он вытирал глаза платком, и мне отнюдь не показалось, что это были всего лишь сентиментальные слезы гордости за правнука. Я почти не сомневалась, что все это было его затеей. Пролог приближался к своей нравоучительной кульминации:
Героине повезло безмерно,
Воссияла для нее удача,
С принцем добродетельным и верным
Под венцом стоит, едва не плача.
И понятно: ведь почти что поздно
Поняла она простую правду:
Следует обдумать все серьезно,
Прежде чем влюбляться безоглядно.
Мы разразились овацией. Послышался даже вульгарный свист. Словарь, мой «Краткий Оксфордский». Где он теперь? В Северо-Западной Шотландии? Я хотела бы получить его обратно. Мальчик сдержанно поклонился и отступил на несколько шагов, к нему присоединилось еще четверо детей, мною не опознанных, которые до поры ждали в условных кулисах.
И спектакль «Злоключения Арабеллы» начался, как и полагалось, сценой прощания убитых горем родителей со своенравной дочерью. В героине я тотчас узнала Хлою, правнучку Леона. Какая это была очаровательная серьезная девочка, с низким грудным голосом. В ней бурлила испанская кровь матери. Помнится, я присутствовала на ее первой годовщине. Кажется, что это было всего несколько месяцев назад. Я следила за тем, как убедительно она, покинутая нечестивым графом, страдает от нищеты, недуга и отчаяния. Роль графа исполнял декламатор пролога в своем черном плаще. Не прошло и десяти минут, как все закончилось. По моим детским представлениям, которым свойственно особое чувство времени, пьеса была не короче любой шекспировской. Я и запамятовала, что после церемонии венчания Арабелла и ее принц-лекарь берутся за руки и, выйдя на авансцену, дуэтом обращаются к публике с финальным куплетом:
Здесь, в конце роковых злоключений,
Начинается наша любовь.
Бог храни вас за долготерпенье.
Отплываем мы в светлую новь!
Не лучшие мои строки, подумала я. Но весь зал, кроме Леона, Пьеро и меня самой, аплодировал стоя. Какими опытными актерами выглядели эти дети, даже во время поклонов. Держась за руки, они стояли строго в ряд и по знаку Хлои то делали два шага назад, то выходили вперед и снова кланялись. Во всеобщем восторге никто не заметил, что Пьеро расчувствовался сверх всякой меры и сидел, закрыв лицо руками. Может быть, он заново переживал тот ужас одиночества, который испытывал в период развода родителей? Близнецам тогда так хотелось участвовать в спектакле в этой самой библиотеке, и вот наконец мечта сбылась шестьдесят четыре года спустя, а его брата уже давно нет на этом свете.
Мне помогли подняться из удобного глубокого кресла, и я произнесла небольшую благодарственную речь. Конкурируя с младенцем, завывавшим где-то в задней части комнаты, я постаралась вызвать в памяти то жаркое лето тридцать пятого года, когда с севера к нам приехали кузены. Обращаясь к актерам, я заверила их, что нам и не снилось подобное мастерство исполнения. В этом месте Пьеро энергично закивал. Я объяснила, что репетиции прервались тогда исключительно по моей вине, потому что в разгар их я вдруг решила стать романисткой. Здесь присутствующие наградили меня понимающим смехом и аплодисментами, после чего Чарлз пригласил всех к столу. Приятный вечер продолжился по заданной программе: шумное застолье, во время которого я даже выпила немного вина, демонстрация подарков, потом младших ребятишек отправили спать, а их старшие братья и сестры пошли смотреть телевизор. За кофе произносили новые речи и много добродушно смеялись, но к десяти часам я уже начала вспоминать свои великолепные апартаменты наверху — не потому, что устала физически, а потому, что устала от общения, устала быть центром всеобщего внимания, каким бы благожелательным оно ни было. Еще с полчаса все прощались, желая друг другу спокойной ночи и счастливого пути, пока Чарлз со своей женой Энни не проводили меня наконец в мой номер.
Сейчас пять часов утра, и я все еще сижу за письменным столом, размышляя о последних, таких странных двух днях. Это правда, что старикам сон не нужен — во всяком случае, по ночам. Мне еще о стольком нужно подумать, между тем скоро, вероятно меньше чем через год, возможности для этого станут у меня куда скуднее, чем теперь. Я думала о своем последнем романе, который вообще-то должен был быть первым. Исходный его вариант написан в январе 1940 года, окончательный — в марте 1999-го, а между этими датами — еще с полдюжины. Второй — в июне 1947-го, третий… Впрочем, какое это имеет значение? Моя пятидесятидевятилетняя епитимья исполнена. Мы трое — Лола, Маршалл и я — совершили преступление, и, начиная со второй версии романа, я всегда писала о нем. Я считала своим долгом ничего не скрывать — ни имен, ни мест, ни обстоятельств. Я излагала все как исторически точную запись событий. Но многие редакторы на протяжении стольких лет твердили, что эти «подсудные» воспоминания не могут быть опубликованы до поры, пока живы мои соучастники, что я могу обнародовать только собственное имя и имена умерших. Маршаллы с конца сороковых годов ведут бесконечные тяжбы, защищая свое доброе имя с исключительно дорогостоящей яростью. Они с легкостью разорят любое издательство, не слишком истощив при этом свои банковские счета. Невольно можно подумать, что им есть что скрывать. Подумать — да, но не написать. Обычно мне предлагали изменить место действия, трансформировать некоторые события, кое-что опустить. Задрапируйте реальную историю вуалью воображения! В конце концов, не для этого ли и существуют романисты? Не заходите дальше, чем требует крайняя необходимость, разбивайте свой лагерь в нескольких дюймах от пределов досягаемости, чтобы рука закона чуть-чуть не дотягивалась до вас кончиками пальцев. Но кто до суда может с точностью определить это расстояние? Чтобы не подвергать себя опасности, следует писать неопределенно, расплывчато. Я знаю, что не смогу опубликовать свою книгу, пока они живы. А с сегодняшнего утра признаю и то, что не нужно печатать ее, пока жива я сама. Смерть одного из них ничего не изменит. Даже когда ссохшаяся физиономия лорда Маршалла появится на газетных страницах некрологов, моя кузина с севера не потерпит никаких обвинений в сокрытии его криминального прошлого.