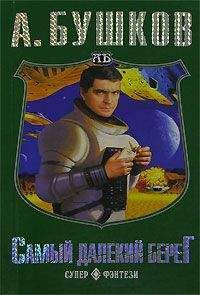Константин Лагунов - Больно берег крут
— Стоп. Стоп-стоп! Кончайте панихиду! Мы что, на поминках по нерожденному нефтепроводу? Обалдели? Я — не министр трубостроительства, даже не начальник вашего главка. Я — заказчик. Слышите? Заказчик! Мое дело денежки вовремя выплатить да проследить, чтоб качественно и в срок. А вы с мольбами, с просьбами. — И, разом вытравив из голоса иронические нотки, жестко, непререкаемо властно: — До ростепели Карактеевское болото надо пройти! Слышите? Иначе нефтепровода не будет. На хрена тогда сверлить нам скважины, обустраивать промыслы, рвать жилы и нервы, если некуда деть добытую нефть. Вбейте это себе в головы, — постучал кулаком себе по лбу. Ивасю показалось даже, что он услышал гулкие тяжелые удары. — Нет труб? Телеграфируйте в свой главк, в обком, посылайте толкачей, летите сами хоть к… но трубы должны быть. Помните, как мы готовили Турмаган к пробной эксплуатации? Ты же был тогда, Камчук. И ты, Солопов. И ты, Василь Сергеич. Чего вас учить? Надо! Понимаете? Надо. Не мне. Не вам. Стране. Стало быть, нефть эта… вот так, — изобразил затягивание петли на своей шее. Громко и длинно выдохнул. Чуть пообмяк голосом. — Завтра вылетаю в Туровск к Бокову. На бюро горкома стоит вопрос о нашем нефтепроводе. Что? Будем такими вот беспомощными и жалкими стоять перед бюро? Канючить? Вымаливать? Пускать слюни? Да… вы же мужики! Коммунисты! Командиры…
Потом втроем — Ивась, Бакутин и начальник участка — они пили спирт, ели какие-то консервы с черствым, жестким, сыпучим хлебом. Ивась тоже пил и ел, и даже курил со всеми вместе. И что-то болезненно дрогнуло в его душе и заныло, когда, отвечая на вопрос Бакутина: «Сколько ты, Василь Сергеич, по тайге да болотам…» — начальник участка заговорил с еле приметным глубинным вздохом:
— А почитай, двадцать лет, Гурий Константинович. Старшая дочка на втором курсе института… — голос у него дрогнул, оборвался на пронзительной, почти слезной ноте. Он как-то судорожно кхакнул, опрокинул в рот рюмку неразведенного спирту, понюхал корочку. Еще раз не то всхлипнул, не то вздохнул и, видимо подуспокоясь, подуняв боль, продолжал прежним голосом: — Трое у меня. Все честь по чести. Квартира хорошая, в центре Омска. Жена — куда с добром. И умна, и по всем статьям… Учительница. А я прискачу на недельку, нагоню таежного духу, напускаю табачного дыму и опять на трассу. В балок. В берлогу эту. Пока молодой-то был, веришь ли, тайком уходил из дому. Ночью. Крадучись. Записочку на подушку и… Умордуюсь тут, уделаюсь, подсекет тоска по жене, по уюту, по детишкам, и опять снегом на голову… А она однажды: «Сбежишь ночью-то?» Распяла меня взглядом. И соврать — не могу, и правду — не смею. А она: «К чему тайком? Не молодые. Я и прежде видела, да притворялась. Зачем теперь?» И так это больно, так безнадежно сказала — слезы из глаз. Как она не бросила меня? Троих родила. В любви, в преданности мне вырастила. И посель верна, и все ждет, когда остепенюсь, устану бродяжить… Мне сорок три, ей сорок. Много ли веку-то осталось? За чем не видишь… и захочешь, да не сможешь. И каждый день… — неожиданно возвысил, ожесточил голос, яростно пристукнул по столу, словно вбивая эти два слова в столешницу, — каждый день… каждый день — не воротить! Не прожить заново…
— Да брось ты, брось все к такой матери. Деньги у тебя есть?
— А-а, — отмахнулся начальник участка от бакутинского вопроса.
— Купи домишко где-нибудь на Кубани, поближе к Черному морю…
— Оставь, Константиныч. Домишко на взморье, цветочки-садочки, окуньки-перепелочки — это не мое. И не твое! Верно ведь? У меня отпуск два месяца. Забираю всю свою ватагу и к матери под Ленинград. По пути в Москве и в Питере нагостимся. А у матери — ешь, пей, отсыпайся… Сколько можно так? Неделю? Две? А потом? Потом… — стиснул замком кисти рук, кинул на стол, уронил на них голову и тихо протяжно засмеялся, будто заплакал.
Бакутин закрыл ладонями лицо, и не понять было, что прячет — улыбку или слезы.
И у Ивася вдруг горячо и щекотно стало в носу, он вроде бы опять оторвался от земли и взлетел. Как тогда. В балке у Егора Бабикова. Может, не совсем так, но очень-очень похоже. Треснула проклятая скорлупа обособленности и отчужденности. Не распалась, не развалилась, но треснула, и в тот крохотный просвет пахнуло синью и солнцем, и почудился ему взлет…
Проворно и неумело плеснул из бутылки в стакан, поднес ко рту… «Резковато, обожжешь слизистую». Долил воды из кружки. Глотнул… «Собачья крепость». Еще плеснул водицы. Еще глоток побольше, посмелее, и тут же закашлялся. Долго тер платком губы, стирал слезы с глаз, торопливо жевал маринованный болгарский помидор. И пока приходил в себя от глотка этой огненной влаги, состояние взлета улетучилось… Лишь неприятный привкус уксуса во рту да горечь в душе…
Глава четырнадцатая
До конца февраля семивахтовые буровые бригады Фомина и Шорина шли вровень, ноздря к ноздре, лишь иногда фоминцы чуть забегали вперед, и подхлестнутый соперник делал рывок, догонял, и они опять неслись бок о бок. Но едва перешагнули февраль, случилось невероятное: шоринцы одним махом обошли, оторвались и к концу первой декады между соревнующимися образовался разрыв в полтысячи метров проходки, который продолжал расти.
Фомин неделю не уезжал с буровой. Отхронометрировал, выверил и настроил все операции, беспощадно отсекая даже непроизводительную секунду. Сократил до рекорда время спуска и подъема инструмента, вел бурение на крайних скоростях и… все равно бригада Шорина уходила и уходила вперед, наращивая разрыв.
Держась то за сердце, то за затылок, Фомин метался от одного бурового куста к другому, еле пряча от товарищей растерянность и гнев. С нарочитой ревизорской придирчивостью и неуступчивостью он приглядывался к работе бурильщиков, наладчиков, испытателей, придирался к мелочам, бросался на помощь замешкавшемуся или растерявшемуся, подменял уставшего, подгонял, бодрил, помогал. Буровики работали в невиданном, недопустимо бешеном ритме, превышая, нарушая, рискуя и… все равно отставали от шоринцев.
Тогда-то свалился на буровую Данила Жох. Именно свалился, потому что его не ждали, и никто не приметил, как Жох подъехал и прошел в вагончик мастера.
— Привет, Вавилыч.
Сграбастал тестя за плечи, потискал, помял легонько и ласково, чуть отстранясь, оглядел пытливо, спросил встревоженно:
— Опять прихватило?
— Чепуха, — отмахнулся Фомин. — Запарился. Ни хрена не пойму, что случилось, почему Шорин так рвет…
— Все очень просто, — зло выговорил Данила, вытаскивая сигареты. — За тем я прискакал. Обдурили тебя Гизятуллов с Шориным. Вокруг пальца обвели.
— Ка-ак? — глухо выдохнул Фомин, обессиленно опускаясь на кровать. — Опять приписка?
— Тот же сарафан, только пуговки сзади. Гизятуллов получил новые, экспериментальные долота для скоростной проходки и все их — Шорину. Вот тот и попер. Ты на трех долотах даешь проходки меньше, чем он на одном. Для твоих долот эта скорость — потолок, для его — первая ступенька…
У Фомина даже рот приоткрылся и глаза остекленело выпучились.
На смену дряблой оглушенности подкатила волна ярости, подхватила, подняла, вздыбила мастера, и тот, неистово ругнувшись, схватил полушубок.
— Машина есть? — придушенно спросил Данилу.
— Есть.
— Айда к Гизятуллову.
— Не к Гизятуллову, а к Черкасову.
Взбешенному Фомину было уже все равно к кому, главное — выкричаться, выплеснуть ярость, наказать криводушие, и он всю недолгую дорогу поторапливал водителя:
— Давай-давай, подкинь скоростенку.
— Может, ты подождешь, — говорил Фомин, поднимаясь по горкомовской лестнице. — Скажут, зятя в адвокаты прихватил.
— Ничего не скажут, — непререкаемо ответил Данила Жох. — Тут не только по тебе пальнули, по всему делу нашему. Всех касается…
«И впрямь всех», — изумился Даниловой прозорливости Фомин, увидя в приемной четырех буровых мастеров из гизятулловского управления. Еще не обронив и слова, не успев пожать товарищам руки, Фомин уже знал: они пришли за тем же. Кто их оповестил, собрал? — Фомин не задумывался. С того мгновенья, как увидел мастеров, угадал, зачем они здесь, с того самого мгновенья Фомина словно бы околдовали и он лишь запоздало констатировал им же сделанное и сказанное, никак не управляя собственными словами, поступками, жестами. Обессиленный, приторможенный колдовством, рассудок не поспевал за событиями и словами, и лишь потом, много дней спустя, перебрав по минуте, по фразе, по выражению голоса, лиц и глаз собравшихся все происшедшее в кабинете Черкасова, Фомин постиг суть события. А тогда…
— Что стряслось? — спросил он мастеров.
— Это ты ответь.
Тут выглянул из кабинета Черкасов.
— Заходите. Сейчас будет Гизятуллов. За Шориным ушла машина.