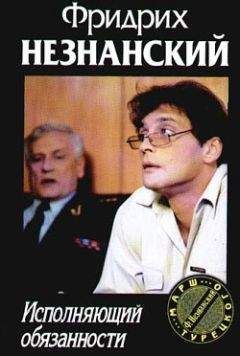Белва Плейн - Бессмертник
Джулиана помрачнела:
— Ничто не бывает навсегда.
— Ты правда так считаешь? Мне тяжело это слышать.
— Я знаю.
— Я хочу жениться на тебе, Джулиана. И это ты тоже знаешь.
— Эрик! Ты слишком молод. Даже для своих лет.
Он остановился посреди улицы.
— Удар ниже пояса!
— Не сердись. Но ведь я правда старше. Мне уже двадцать четыре года.
— Ты что же, думаешь, я считать не умею? И какая, собственно, разница, сколько кому лет?
— Да никакой. Но я имела в виду и другое. Ты чересчур доверчив. Ты едва меня знаешь, а уже готов преподнести мне свое сердце на блюдечке.
— Мое сердце: кому хочу, тому и преподношу, — пробормотал он.
— Ладно, не сердись, — повторила она и, потянувшись, поцеловала его. — Давай купим мороженое, посидим в сквере. У меня гудят ноги, и жутко хочется есть.
Они уселись на скамейку с большим картонным стаканом мороженого — одним на двоих. Мимо, болтая, проходили школьники с ранцами за плечами. Проезжали туристские автобусы. Во дворике на другой стороне улицы семейство наряжало шалаш к празднику Суккот: развешивали на кольях плоды и пучки колосьев.
Эрик проследил взгляд Джулианы.
— Суккот — праздник урожая, — объяснила она. — В этот день положено есть на улице, в маленьком шалаше или беседке.
— Милая традиция. У всех народов есть свои милые традиции.
— Конечно.
Мимо, глядя в одну книгу, прошли два старика. Между ними разгорелся жаркий спор: в нем участвовали и отчаянно жестикулирующие руки, и развевающиеся бороды.
— Кому непременно надо все это увидеть, так это моему деду, — сказал Эрик. — Отрасти он бороду и надень черную шляпу с широкими полями, выглядел бы точь-в-точь как эти старики. Здесь, в сущности, повсюду один типаж.
— Да, — безучастно кивнула она.
— Что с тобой? — спросил Эрик.
Она воткнула палочку в недоеденное мороженое и сидела, сложив руки на коленях.
— Ничего… То есть… Я хочу тебе что-то сказать.
Он замер. Но она все не начинала.
— Нет, я не хочу тебе говорить, — произнесла она наконец.
Он заметил ее смятение.
— Не хочешь, не говори, — осторожно произнес он.
— Нет. Хочу. Я хочу рассказать. Я хочу кому-нибудь рассказать. Всегда хотела и никогда не могла. А теперь — не могу не рассказать, не выдержу больше… Знаешь, когда внутри что-то гложет, жжет и с этим надо жить каждый день, а тебе так стыдно, стыдно…
Что же она такого сделала? За что ей стыдно? Эрик с напряженным испугом ждал продолжения.
— Тебе знакомо такое чувство?
— Нет. Незнакомо.
— Помнишь, я рассказывала о моей семье, как мы помогали соседке прятать на чердаке этих несчастных евреев и как моих дядей арестовали фашисты?..
— Да, ты рассказывала о родителях и о…
— Не о родителях, — перебила она. — О маме. — Она отвернулась и сказала в сторону: — О маме и ее братьях.
И умолкла. Эрик ждал.
Мимо прогрохотала пожарная машина. За ней, завывая, промчался полицейский фургон. Несколько секунд стоял адский шум, и говорить что-либо было бесполезно. Затем в скверике снова воцарилась тишина, мирная и глубокая: ворковали голуби, выискивая хлебные крошки; женщина на другой стороне улицы окликнула ребенка. Но Джулиана по-прежнему сидела молча.
Он собрался было сказать: «Продолжай», но вдруг заметил, что веки у нее крепко сомкнуты, ресницы дрожат и руки на коленях сжаты в кулаки. Он растерялся.
Наконец она произнесла — старательно ровным, но все же срывающимся голосом:
— Мой отец… Когда война кончилась, голландские власти пришли за моим отцом. Он работал на немцев. Был одним из главарей контрразведки. Крупной фигурой. — Она открыла глаза и взглянула на Эрика в упор. — Крупной фигурой! Именно он выдал маминых братьев, и соседей, и нашего приходского священника, и всех остальных, кто был с ним в подполье. Представляешь? Мой отец!
Эрик судорожно сглотнул.
— Я думала, мама сойдет с ума…
— Ошибочное обвинение? — проговорил Эрик. — Наговор?
Джулиана медленно покачала головой:
— Мы тоже на это надеялись. Но оказалось — правда. Он и не пытался ничего отрицать. Он гордился! Эрик, он гордился! Он во все это верил: в высшую расу, в тысячелетний рейх, во все!
Эрик взял ее руки в свои.
— Да, я думала, мама сойдет с ума. Прожить столько лет… и, вероятно, даже любить… чудовище! Чудовище, пославшее на смерть ее братьев. Жить с таким человеком и ничего не знать, не чувствовать…
Он поправил ей выбившуюся прядь, погладил по голове. Слов не нашлось.
— И ведь он был к нам добр — ко мне, к сестрам. Доставал одежду, игрушки, даже конфеты, когда вокруг ни у кого ничего не было. Во всей стране. Он возил нас за город, на дачу. Он нас любил. А тех, других, детей обрек на смерть.
— Бедная моя. Бедная, — прошептал Эрик, не умея утешить и помочь.
— Мама после этого спрашивала: «Ну скажи мне, скажи, можно ли кому-нибудь верить? Скажи?» Мне тогда было четырнадцать лет…
— Она говорила конкретно, — мягко произнес Эрик. — Она не призывала тебя не доверять людям.
— Вероятно, ты прав. Она справилась, выкарабкалась. У нее есть мои сестры, есть я. Она работает. Существует. Но… жить с человеком, не зная, кто он на самом деле… Зачем тогда вообще… — Она умолкла.
— Вот, оказывается, в чем дело, — пробормотал Эрик.
— Что? Что ты сказал?
— Ничего. Не важно.
Над городом уже сгущались сумерки. Зажглись уличные фонари.
— Я рада, что рассказала. Мне стало лучше.
— Можешь мне всегда все рассказывать.
Он сказал это искренне и все же в глубине души пожалел, что узнал ее тайну. Он понял, что соперник у него недюжинный и одолеть его будет чрезвычайно трудно.
— Меня тревожит один мальчик, — пожаловалась Джулиана Эрику несколько недель спустя. — Помнишь, в прошлом году расстреляли наш автобус? Тогда ведь не все погибли. И остались дети, у которых погибли родители.
— Помню. Ты показывала мне место на дороге.
— Так вот, этот мальчик… Да ты, наверно, знаешь его: Лео. Он еще ходит за мной по пятам. Такой маленький, в очках. Ему девять лет.
Эрик кивнул:
— Да, да, знаю. Но он вроде спокойный?..
— Чересчур. Никому никаких хлопот не доставлял. Даже тогда, сразу после налета. Хотя вокруг все бились в истерике. Со многими детьми приходилось просиживать ночи напролет, они плакали, просыпались в кошмарах. И не две-три ночи, а целые недели, даже месяцы. А он — прямо железный…
— Может, ты напрасно волнуешься? Ты с кем-нибудь советовалась?
— Конечно. Все говорят: стойкий, отважный мальчик. И очень зрелый — рано повзрослел. Но мне все-таки за него тревожно.
— Хочешь, я с ним поговорю? Я ведь работал в подростковом лагере. Может, не разучился еще разговаривать с детьми?
— Спасибо. Я так надеялась, что ты предложишь.
Джулиана привела Лео днем, когда Эрик кормил телят.
— Ты говорил: нужна помощь. Я думаю, Лео справится. Он у нас не по возрасту высокий и сильный.
Лео молчал. Стоял, равнодушно глядя в сторону, не хмурясь, не улыбаясь.
Джулиана ушла.
— Тут дело такое, — принялся объяснять Эрик. — Этих телят отняли от коров, от вымени, и я пытаюсь первый раз напоить их из ведра. А они, бестолковые, не понимают и норовят его опрокинуть — у-у, вот видишь, какой глупыш! Попробуем так: ты подержишь ведро, а я суну его мордой в молоко, чтобы он почувствовал вкус…
Телят было пятеро. Когда накормили всех, Эрик произнес:
— Веселое занятие, верно?
Лео пожал плечами.
— Хочешь, завтра еще попробуем?
— Если тебе нужна помощь, я приду. Люди должны помогать друг другу.
— Не важно, кто что должен. Я спрашиваю: ты хочешь?
— Наверно…
— Я сейчас пойду на пастбище, за коровами. Их сегодня далеко отогнали. — На сей раз он не стал спрашивать, хочет ли Лео идти с ним, а просто сказал: — Идем вместе.
Мальчик повиновался. Они пробирались по узкой тропинке меж несжатых полей. Колосья шуршали от малейшего ветерка.
— Красиво здесь, — произнес Эрик. — Тебе, пожалуй что, повезло. В такой красоте живешь…
— Да.
Так, с какого же боку подступиться? Ничего интересного в голову не приходило, и Эрик произнес традиционный вопрос:
— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
— Зависит от того, что нужно стране. Наверно, солдатом.
Ответ показался Эрику чересчур правильным и явно неискренним.
— Лео, скажи, кем ты на самом деле хочешь быть. Не надо заученных фраз.
Мальчик остановился, открыл было рот, но тут же, точно опомнившись, пошел дальше.
Узкие плечики с торчащими ключицами. Тонкие ноги — кожа да кости. Малыш, мальчик и — одновременно — мужчина! И вдруг из какого-то далекого угла души и памяти вырвался вопрос:
— Лео… ты, должно быть, часто думаешь о папе с мамой?..