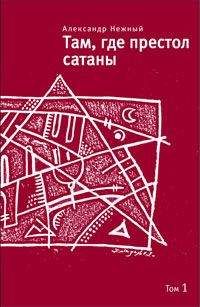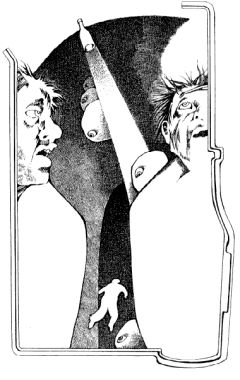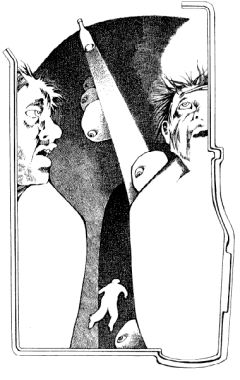Александр Нежный - Там, где престол сатаны. Том 2
Все это, говоря по чести, доктор Боголюбов благополучно пропустил мимо ушей, отметив лишь печальное вдовство Игнатия Тихоновича и унижающие человеческое достоинство условия его существования. Рассудив, что человеку всегда легче примириться с тяготами жизни, если под их игом стонут и другие, он в двух словах сообщил сотниковскому Нестору о собственном жилищном положении. Хуже некуда. Собственно, нет и положения, потому что нет жилья.
– Сорок три года, – замедляя шаг и быстрым взором окидывая поблекшее изображение, надо полагать, герба града Сотникова: три сосны на голубом поле и сверху круглый щит с двумя перекрещенными на нем стрелами, – врачебного стажа почти двадцать лет, а живу у папы, пока он терпит. А дальше…
Первым его желанием было посвятить Игнатия Тихоновича в свои матримониальные намерения и заодно воздать хвалу своей суженой, своей любимой, своей пока еще не венчанной жене, однако два шага спустя порыв откровенности сошел на нет. Зачем? Не обернутся ли его гимны песней скорби над приказавшей долго жить любовью и грезами о семейном счастье? Тьфу-тьфу. Не приведи Бог. Между тем, они миновали длинное одноэтажное здание с высокой трубой над ним, курящейся белым дымом. Два крепких молодых человека в шлепанцах и с березовыми вениками в руках всходили на его крыльцо.
– Наша баня, – пояснил Игнатий Тихонович. – Мой ученик в ней банщиком. Если пожелаете, я скажу, он получше истопит…
Баня? Ликование тела? О, нет. Даже сердечная приязнь к Зиновию Германовичу, имеющая в ответ, без сомнения, столь же дружеское чувство, не побудила Сергея Павловича хотя бы единожды в месяц посещать превосходные Кадашевские бани – за исключением памятного дня, начавшегося в «Яме», на углу Столешникова и Пушкинской, и едва не завершившегося грехопадением в объятиях Людмилы Донатовны.
– Вряд ли, – пробормотал он, печально подивившись ничтожности событий и чувств, составлявших его жизнь.
Как повитый пеленами младенец, был опутан заблуждениями души и соблазнами плоти. Не утаю, хотя в отчете о самом себе как всякий человек имею врожденную склонность к умолчаниям и подтасовкам, бессознательно или вполне осознано желая, чтобы в поданной наверх бумаге концы непременно сошлись с концами.
Самонадеянное создание! Отчего лукавишь? Отчего промедляешь признать свою жизнь фальшивым авизо? Ибо получал то, что тебе не причитается; брал в долг и не желал возвращать; выдавал груду камней за построенный дом. Или мнишь скрыть правду не только от себя, но и от Генерального Ревизора?
И разве не вправе был указать ему дед Петр Иванович, чтобы он снял обувь свою, ибо земля, по которой идешь, есть земля страданий и крови, земля обетованная?
Он шел улицей Калинина по тротуару из проседающих, а то и вовсе сгнивших досок, бывших, говоря по закону и совести, нелицеприятным обвинением городским властям, плюнувшим на безопасность и здоровье вверенного им населения.
– Ну что это! – пожаловался Сергей Павлович, едва не угодив в черную дыру посреди дощатого настила. – Не волк я по крови своей, чтобы капканы на меня ставить…
– Осторожней! – с отеческой тревогой воскликнул шествующий впереди вожатый, не оценив весьма уместно вставленную в обиходную речь строку из великого стихотворения великого поэта. – У нас тут, случается, и ноги ломают.
Гость, однако, и сам был бы повинен в едва не приключившемся с ним несчастном случае, ибо глазел все больше по сторонам. Да и мудрено было ему умерить свой пытливый, с налетом некоей сумеречности интерес ко всему, что встречалось на пути: к домам, поначалу вполне деревенским, с подсолнухами в палисадниках, с девической стыдливостью чуть склонившим темные головки в обрамлении лепестков из ярко-желтого шелка; затем становящимися все выше, в два и даже три этажа, с маленькими окнами в цветных занавесках и неизменной геранью на подоконниках, к серому бетонному зданию кинотеатра, с варварской безжалостностью вторгшемуся в чужой ему мир, к железным решетчатым двустворчатым воротам с надписью полукругом: «Сотниковское автохозяйство» и оскорбительным для памяти Петра Ивановича плакатом с надрывным воплем на нем: «Слава КПСС!», к стоявшему в воротах наподобие чугунной тумбы брюхатому мужику в коричневой нейлоновой рубашке с закатанными по локоть рукавами, оплывшим азиатским лицом и глазками-щелочками, которыми он в один миг обозрел Сергея Павловича, после чего снова обернулся к русоголовому парню, обтиравшему ветошью замасленные руки, дабы продолжить свое наставление.
– Ты, заразочка, – услышал доктор его быстрый говорок, – все брось и езжай. Лошадку привезешь, я тебе, так и быть, насос выпишу.
– Новый?
– А ты со мной не торгуйся, заразочка. Какой дам. Кто со мной торговался, тот на кладбище остался. Понял?
Сергей Павлович так никогда не узнал, чем кончилось дело. В том-то, между прочим, и состоит благородное страдание мыслящего путешественника, вынужденного довольствоваться всего лишь крохотным кусочком из книги чужого бытия, без начала, продолжения и конца. Для него навсегда останется тайной, чем, к примеру, занялся путеец, в белых подштанниках вышедший из своей будки навстречу поезду, доставившему Сергея Павловича в Красноозерск: завалился ли под жаркий, как печка, бок законной супруге, отправился ли в сарай задать корм корове или уселся за покрытый драной клеенкой стол и, прихлебывая чай из стакана с подстаканником, продолжил чтение «Материализма и эмпириокритицизма» известного автора, нудное, откровенно говоря, сочинение, из-за которого студент Боголюбов пережил на экзамене по философии несколько пренеприятнейших минут. Хорошо ли клевало у человека в сером дождевике, резиновых черных сапогах и с удочкой, притороченной к велосипедной раме? Или после двух-трех неудачных забросов он оставил это пустое занятие и, порывшись в сумке, извлек бутылку, стакан, хлеб, колбасу, пару малосольных огурцов и с легкой душой выпил в честь наступающего дня, которому, однако, суждено для многих из нас стать последним? А кошка, с нечеловеческой проницательностью разглядывавшая покинувшего вагон доктора? Разрешилась ли она от бремени? И не отняла ли у нее котят безжалостная рука, дабы предать их смерти через утопление? Нет и не будет ответа. Остановившись и дождавшись гостя, Игнатий Тихонович вполголоса довел до его сведения, что монументальный азиат в коричневой рубашке – один из столпов сотниковского общества, местный, так сказать, Гермес, иными словами – директор автохозяйства, имеющий имя Абдулхак, народное прозвище Живоглот, двух жен, пожилую татарку, называющую супруга Абдуша, и молоденькую русскую, с властью своей еще не увядшей прелести дразнящую мужа (он, разумеется, ей де-факто, а не де-юре) Абдул всех надул, четырех дочерей и совсем маленького сыночка, лошадка же, за которой он посылал водителя, будет им под зиму собственноручно забита и разделана, каковое дело требует мастерства и навыка, кишки и мясо пойдут на колбасу, остальное частью сварят, частью отдадут огромному Акбару, туркменскому волкодаву, свирепому, как все псы преисподней.
Сергей Павлович чистосердечно изумился. Все известно. Надо же!
Все и про всех, подтвердил бывший учитель. Назавтра град Сотников, девять тысяч триста пятьдесят душ мужеского и женского пола, включая дряхлых стариков и грудных младенцев, будет знать о новом постояльце гостиницы – кто, откуда, семейное положение, надолго ли и с какими целями.
– Вы, что ли, оповестите? – с излишней, надо признать, резкостью осведомился доктор.
Игнатий Тихонович не обиделся и ответил с достойной летописца и мыслителя глубокомысленностью: «Разве решето удержит воду?» Гм. Хорошо бы понять, что за решето имеет доктор Боголюбов в близком соседстве вот уже четыре часа? Или следует толковать иносказательно и расширительно? У Сергея Павловича вновь пробудились упраздненные ранее подозрения относительно навязавшегося ему в собеседники и спутники старичка. Поравнявшись с Игнатием Тихоновичем, он бросил на него испытующий взгляд. А не приставлен ли ты, старче, конторой глубокого бурения, где прислуживаешь ради крохотного довеска к ничтожной пенсии?
– Да, – с напускной рассеянностью молвил Сергей Павлович, – все спросить забываю… У вас в Красноозерске дела какие-нибудь были? Или знакомых навещали?
– А там племянник Серафимы Викторовны, – без промедления отозвался летописец, и тень печали коснулась славного, чистенького его лица. – Сорок лет, ума нет. Пьет горькую. Семья, трое детей. Ездил вразумлять.
– Успешно?
Игнатий Тихонович махнул рукой.
– Где-то в Новосибирске… в Академгородке, говорят, какой-то серьезный ученый лечит розготерапией. Его бы туда… И сто горячих!
Он снова махнул рукой – теперь, однако, не с чувством бессилия, а так, словно в ней зажат был пук смоченных в соленой воде розог, которыми он охаживал филейные части родственника, пытаясь вырвать его из пасти зеленого змия. Сергей Павлович почувствовал, что краснеет. Слава Богу, солнце. Не заметно. Как врач он выразил сомнение в благотворном воздействии розог и упомянул о докторе Макарцеве, своем друге, стяжавшем пусть негромкую, но прочную славу исцелением алкоголиков. Можно устроить. И в третий раз махнул рукой Игнатий Тихонович, предоставляя провидению судьбу племянника-пьяницы.