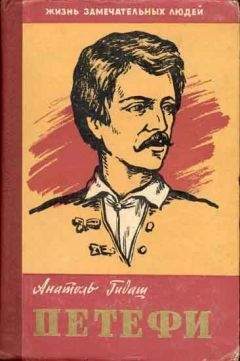Свечи сгорают дотла - Мараи Шандор
— И все же, — генерал поднял к свету бокал с белым вином, — скажи, что там внутри?
Когда же гость промолчал, продолжил:
— Я так представляю, ты для того и пришел сегодня вечером, чтобы рассказать.
Они сидят за длинным столом в большой столовой, где со смерти Кристины не бывало гостей. Зал, где десятилетиями никто не обедал, похож на музейную комнату, в которой хранятся мебель и утварь, характерные предметы исчезнувшей эпохи. Стены украшены старыми резными французскими деревянными панелями. Мебель вся из Версаля. Хенрик и Конрад сидят на концах длинного стола, между ними, посреди пространства, крытого белой скатертью, в хрустальной вазе плавают орхидеи. Цветочное украшение обрамляют четыре фарфоровые фигуры, шедевр Севрской мануфактуры, изящные символические изображения Севера, Юга, Востока и Запада. Перед генералом — фигурка Запада, перед Конрадом — Восток, гримасничающий маленький сарацин с верблюдом и пальмой.
На столе в ряд выстроились фарфоровые подсвечники с толстыми голубыми церковными свечами. Только по углам обеденного зала горят невидимые пока источники света. Над свечами колышется высокое пламя, комната практически в полутьме.
В камине из серого мрамора желтыми и черно-красными языками полыхают дрова. Но створчатые окна в пол полностью не закрыты, шелковые занавеси перед ними не стянули. Воздух летнего вечера периодически просачивается через оконные щели, сквозь тонкие шторы виден пейзаж, залитый лунным светом, и мерцающие огни небольшого городка.
В центре украшенного цветами и освещенного горящими свечами длинного стола спинкой к камину стоит еще один обитый гобеленом стул. Здесь когда-то сидела жена генерала, Кристина. Перед отсутствующим прибором расположилась фигурка Юга: лев, слон и человечек в бурнусе, с черным лицом что-то мирно охраняют на пространстве величиной с ладонь. Мажордом в черном смокинге несет вахту в кулисах, рядом с сервировочным столиком, стоит неподвижно, взглядом направляет движения лакеев, которые сегодня одеты на французский манер — в штаны до колен и черные фраки. Эту традицию ввела еще мать генерала, и всякий раз, когда трапезничали в этой комнате, где каждый предмет мебели и даже тарелки, позолоченные приборы, хрустальные сосуды, стаканы и панно на стенах иностранная госпожа привезла со своей родины, требовала, чтобы лакеи прислуживали в одежде той эпохи. В столовой так тихо, что слышно даже, как потрескивают горящие дрова. Мужчины беседуют негромко, но разбирают слова друг друга: стены, покрытые теплым старым деревом, отражают даже то, что произнесено вполголоса, как дерево музыкального инструмента отражает звон струн.
— Нет, — отвечает Конрад, который все это время ел и размышлял. — Я приехал, потому что был проездом в Вене.
Он ест жадно, изящными движениями, но со старческой алчностью. Потом кладет вилку на край тарелки, слегка подается вперед и чуть ли не выкрикивает в сторону далеко сидящего хозяина:
— Приехал, потому что хотел еще разок тебя увидеть. Разве это не естественно?
— Ничего не может быть естественней, — вежливо отвечает генерал. — То есть ты был в Вене. Для того, кто познал тропики и безумие, это, наверное, сильное впечатление. Ты давно последний раз бывал в Вене?
Генерал задает этот вопрос вежливо, в его голосе не ощущается ни тени насмешки. Гость с недоверием смотрит на него с другого конца стола. Они сидят здесь несколько потерянные: два старика в просторном зале, далеко друг от друга.
— Давно, — отвечает Конрад. — Сорок лет тому назад.
Я тогда… — неуверенно продолжает он и невольно замолкает в смятении. — Я тогда ехал через Вену по пути в Сингапур.
— Ясно, — говорит Генерал. — И что ты нынче нашел в Вене?
— Перемены, — признается Конрад. — В моем возрасте и положении человек уже повсюду видит перемены.
Да, я сорок один год не был на континенте. Только провел несколько часов во французском порту, когда направлялся в Сингапур. Но Вену хотел посмотреть. И этот дом.
— И ради этого отправился в путешествие? — вопрошает генерал. — Хотел увидеть Вену и этот дом? Или у тебя в Европе какие-то коммерческие дела?
— Дел у меня уже никаких нет, — отвечает гость. — Мне семьдесят три, как и тебе. Скоро умирать. Потому и отправился в путь, и сюда поэтому приехал.
— Говорят, — вежливым, ободряющим тоном произносит генерал, — в этом возрасте человек живет уже до тех пор, пока ему не надоест. У тебя нет такого ощущения?
— Мне уже надоело, — говорит гость.
Он произносит эти слова равнодушно, ничего не подчеркивая.
— Вена. Знаешь, это слово было для меня камертоном. Достаточно было его произнести — Вена, — и будто ударил по камертону, а потом смотришь, что в этом звуке слышит твой собеседник. Я так людей проверял. Кто не мог отозваться — не мой человек. Ведь Вена была не просто городом, но и звуком, который человек либо вечно слышит в своей душе, либо нет. Это было самое прекрасное в моей жизни.
Я был беден, но не был одинок, ведь у меня был друг. И сама Вена была как друг. Я всегда слышал ее голос в тропиках, когда шел дождь. И в другие моменты. В тропическом лесу мне порой вспоминался сырой запах подъезда в нашем доме в Хитцинге. В Вене жила музыка и все, что я любил, в камнях, в том, как выглядели люди, как вели себя, как чистые порывы страсти в сердце человека. Знаешь, когда страсти уже не причиняют боль. Вена зимняя и весенняя. Шенбруннские аллеи. Голубоватый свет в спальне училища, большая белая лестница с барочной статуей. Утро верхом в Пратере. Белые лошади испанской школы. Все это я помню так ярко и хотел еще раз увидеть. — Конрад говорит это тихо, чуть ли не пристыженно.
— И что ты обнаружил сорок один год спустя? — повторяет свой вопрос генерал.
— Город, — Конрад пожимает плечами. — И перемены.
— Здесь, у нас, — заверяет его генерал, — ты хотя бы не разочаруешься. У нас мало что изменилось.
— Ты в последние годы не путешествовал?
— Совсем немного. — Генерал смотрит на пламя свечей. — Насколько требовала служба. Какое-то время думал оставить службу, как это сделал ты. Была такая минута. Думал, отправлюсь-ка и я — посмотреть мир, поискать, найти что-то или кого-то. — Старики не смотрят друг на друга: гость разглядывает хрустальный бокал, наполненный желтым напитком, генерал смотрит на колеблющийся свет свечей. — Но потом все же остался. Сам знаешь, служба. Человек становится черствым, упрямым. Я обещал отцу, что отслужу свой срок до конца. Потому и остался. В отставку я вышел рано, это правда. В пятьдесят мне доверили командование корпусом. Мне показалось, я для этого слишком молод. Тогда и подал в отставку. Меня поняли и отставку приняли.
— Дай вообще, — продолжает он, делая знак лакею, чтобы тот налил красного, — настало время, когда служба уже перестала быть мне в радость. Революция. Время перемен.
— Да, — откликается гость. — Об этом я слышал.
— Только слышал? А мы это пережили, — строго добавляет генерал.
— Наверное, не просто слышал, — поправляет себя его собеседник. — Семнадцатый, да. Тогда я во второй раз отправился в тропики. Работал в болоте с китайскими и малайскими кули. Китайцы — лучшие работники. Все проиграют в карты, но лучше их никого нет. Мы жили на болоте в самой чаще. Телефона не было. Радио тоже. В мире шла война.
Я тогда уже был гражданином Англии, но всем было понятно, что против собственной родины я сражаться не могу. Такие вещи они понимают. Поэтому я смог вернуться в тропики. Мы там не знали ничего, меньше всего могли знать кули. Но однажды в болоте, без газет и радио, там, где до всего добираться не одну неделю, мы вдруг перестали работать. В двенадцать часов дня. Безо всякой причины. Вокруг нас ничего не изменилось: условия работы, дисциплина — все было по-старому, даже питание. Ни плохое, ни хорошее. Какое возможно. Каким оно там должно быть. И вот в один прекрасный день в семнадцатом году в двенадцать часов дня все кули говорят, что больше работать не будут. Вышли из чащи — четыре тысячи кули, по пояс в грязи, торс голый, сложили на землю орудия труда: топоры, лопаты, — и сказали: «Хватит». Начали требования выдвигать. Чтобы у владельцев земли отобрали право дисциплинарного суда. Хотели, чтобы им повысили плату. Увеличили обеденный перерыв. Непонятно было, что в них перемкнуло.