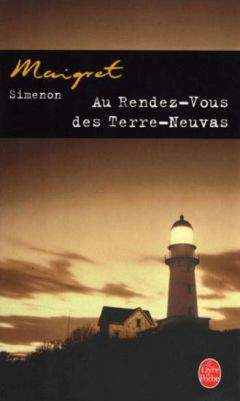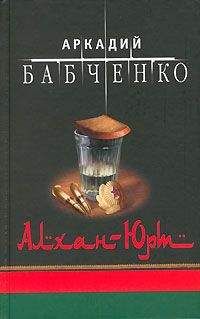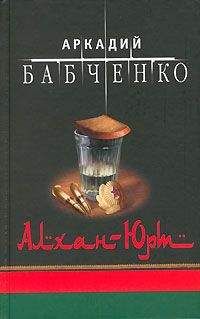Андрей Рубанов - Жизнь удалась
– Матвей, – тихо позвал Кактус.
– Говори.
– Ты чувствуешь его?
– Что?
– Великое равновесие.
– Да.
– Ты не можешь чувствовать по-настоящему.
– Почему?
– Потому что ты куришь, жрешь водку, дышишь круглосуточно испарениями большого города, вдыхаешь пот людей.
– Ты тоже сегодня курил и пил вместе с нами.
– У меня не то, – сказал Кактус. – Я пью и курю раз в полгода. Один раз – весной и один раз – осенью. Специально. Чтобы не впали в лень мои пороки.
– Хватит вам, – произнес Никитин.
Они опять помолчали.
Просторный мрак лелеял сам себя.
– Слышишь, Матвей, – сказал Никитин. – Ты извини меня.
– За что?
– За то, что я вот так вот… Ну, в смысле – позвал тебя на разговор, ты приехал – а я пьяный в говно…
– Ерунда, – простил Матвей. – Перестань. С кем не бывает…
– Да. Бывает. – Никитин сплюнул и пожаловался: – Третью неделю пью. Не просыхаю.
– Я бы тоже пил. Больно же…
– Да, больно.
– Сильно болят?
– Что?
– Пальцы.
– Да не пальцы болят. – Никитин опять сплюнул. – Не пальцы. Не пальцы! Не хочу я, понимаешь?
– Чего не хочешь?
– Уезжать.
– Почему?
– Не знаю.
– Родину, что ли, любишь?
Никитин помолчал. Матвей услышал его дыхание – тяжелое, с присвистом.
– А почему бы и нет? – выговорил он с неопределенным смешком. – Кроме того, я не выбирал страну. Меня не спрашивали, когда рожали.
– А если бы спросили? – поинтересовался Кактус. – Вот предложили бы тебе: сам выбери, Иван, в какой стране родиться, кто будет твоя мама, кто будет папа…
Никитин подумал и ответил:
– Я бы эту страну и выбрал.
– И я тоже, – сказал Матвей.
– И маму, – добавил Никитин. – Маму выбрал бы ту же самую.
– И папу? – уточнил Кактус.
– Я своего папы никогда не видел.
– А мой папа на БАМе погиб, – сказал Матвей.
– А мой в лагере сгинул, – сказал Кактус.
Опять помолчали.
– Иван, – позвал Матвей.
– Чего тебе?
– Не уезжай. Оставайся. Уничтожь врагов. Победи.
– Нет, – вздохнул депутат. – Я больше не буду никого уничтожать. Не могу. Гады множатся. Всех не уничтожишь. Да и сам я… В общем, ладно. Закроем эту тему. Спать пора.
– А мне – ехать, – тихо выговорил Матвей.
– Исключено, – сказал Кактус. – Ты сможешь доехать максимум до первого столба. Ты устал. Иди приляг. Поспи.
– Мне домой надо.
– Поедешь утром.
– Завтра понедельник. У меня работа. Бизнес.
– Подождет твой бизнес. Что это за бизнес, если в понедельник утром надо куда-то торопиться? Пойдем, я тебе таблеточку дам полезную – будешь спать, как младенец…
Ночью Матвей проснулся. Стало трудно дышать. Словно кто-то наступил на грудь и давил теперь – неприятно, сильно. Боли он не ощутил, а ощутил сильный страх.
Спокойно. Сейчас все пройдет. Я справлюсь. Не хватает воздуха, но я справлюсь.
Изнутри грудной клетки вдруг ударило, рванулось, сотрясло внутренности. Горячая волна пробежала по телу, и как будто стало чуть легче. Это сердце, оно работает, оно качнуло кровь. Надо сделать вдох, глоток. Опять ударило, толкнуло изнутри. Нормально, я жив, соображаю, чувствую, вот-вот приду в себя. Почему так страшно?
Навалилось, придавило, стиснуло. Он захрипел. Надо позвать на помощь. Нет, сам справлюсь. Сейчас сердце опять сработает. Тут важна сила воли. Слишком мало воздуха. Ничего не чувствую, кроме темного, засасывающего ужаса. Куда-то опрокидываюсь, лечу, то ли падаю, то ли возношусь, то ли отделяюсь от себя, но вот – опять воссоединяюсь… Куда меня? Почему так? Давит, как давит! Где я? Что со мной? Боже. Мама. Страшно. Нет. Нельзя. Зачем. Мама…
Вдруг он выскочил, всплыл, темнота раздвинулась – над ним склонились два серых встревоженных лица.
– Умирает.
– Да. Мы, кажется, перебрали. Зря ты его напоил. Поить не надо было.
– Умрет?
– Нет. Сейчас сделаем укол.
Его хлестали по лицу, трясли за плечи. Он хотел что-то сказать, но не сумел. Очень хотелось жить. Сильнее всего на свете. Жить, и всё. Смотреть на мир, улавливать звуки, вдыхать запахи.
– Давай, Матвей, дорогой! Давай, держись! Ты чего? Держись! На меня смотри! Сейчас все будет в порядке! Дыши! Живи! Ты нам еще нужен! Давай!
Укола Матвей не почувствовал. Его уже оторвало ото всего, с чем он был связан, и унесло далеко-далеко, и увидел он впереди свет конечный, и закричал, но его никто не услышал.
4. Бутлегер
Ему нравилось думать о себе как о бутлегере.
Идея с вином родилась сама собой. Переброска мелких партий чая и шоколадных конфет в провинциальные города однажды перестала удовлетворять честолюбивых компаньонов, и вот Знайка обзавелся знакомством в московском представительстве некой французской фирмы, торговавшей всем на свете. В том числе и разнообразными алкоголями.
Выяснилось, что французское вино не обязательно должно продаваться в пяти элитных супермаркетах, ближе к Рублево-Успенскому шоссе, по триста долларов за бутылку. Выяснилось, что такое вино может стоить доллар с четвертью – и при этом быть настоящим французским вином. Выяснилось, что достаточно появиться в уютной, красиво меблированной французской конторе, выпить чашку кофе и показать документ об оплате – остальное любезные французы сделают сами. Доставят в любую точку страны.
Запахло не просто золотым дном, а вкладом в историю новорожденного отечественного капитализма. В развитие культуры потребления обильно и неразборчиво пьющих соотечественников. Запахло благородным красивым бизнесом. Респектабельным офисом с кожаными креслами. Дегустациями и многозначительными дебатами об урожайных и неурожайных годах. Оставалось найти деньги.
В июле девяносто третьего они взяли банковскую ссуду в семьдесят тысяч американских долларов.
К тому времени Матвей и Знайка давно не считали себя новичками. Ходили в черной коже, ездили на черном автомобиле. Кожа, правда, была не самая дорогая. Автомобиль – тем более. Все равно ежедневно ловили на себе взгляды уважения и зависти. Чужая зависть льстила самолюбию. Даже самая черная, дурная зависть так или иначе всегда щекочет самолюбие ее объекта.
Матвею нравилось фигурировать в черном прикиде и посредством электронного брелока отмыкать черную машину. Знайке, наверное, тоже нравилось, но он, в отличие от Матвея, все больше посмеивался. Он глубоко презирал внешнюю сторону всякого дела, никогда никого не встречал по одежке и сам, если день не обещал важных встреч, норовил вместо кожи нарядиться в потертую клетчатую рубаху. Заставить его купить дорогой костюм или ботинки было делом немыслимым. Матвей подозревал, что его друг никогда не смотрит на себя в зеркало. Во всяком случае, он явно забывал вовремя посетить парикмахера.