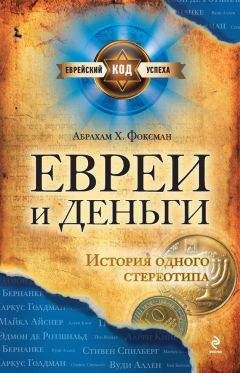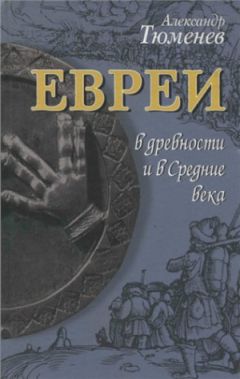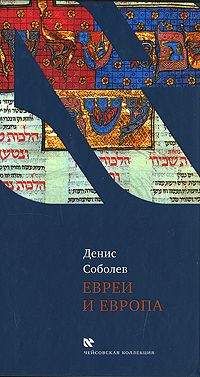Даниэль Пайснер - В темноте
Это взбесило бабушку. А украинки, размахивая кулаками, бросились за мной, крича:
– Жидовская сволочь!
Они меня, конечно, не поймали, потому что бегала я быстро. Они не обратили внимания на бабушку. Наверно, они просто не поняли, что мы с ней вместе. Обрызгав их, я ощутила в себе такую силу, такое могущество! Совершеннейший пустяк, шалость, но я вдруг почувствовала, что не так беспомощна, как кажется. Конечно, дома я получила на орехи, но меня это не расстроило. Важнее всего для меня в тот момент было понимание, что мы в силах противостоять украинцам, немцам – всему, что нам угрожает.
Умение быстро бегать помогло мне еще не раз, особенно во время немецких «акций», когда они оцепляли целые районы и очищали улицы от евреев. Ходить по городу без документов было всегда небезопасно, но во время «акций» даже самые правильные документы не значили ровным счетом ничего. В «акциях» немцы задействовали все свои силы: солдат, гестаповцев, эсэсовцев. Они вламывались в квартиры, где, по сведениям украинцев, жили евреи, и вытаскивали обитателей на улицы. Иногда они просто забрасывали гранатами здания, где, по их подозрениям, жили евреи. Они выгоняли людей на улицы и везли потом на возвышающийся над городом холм, в Яновский трудовой лагерь, или в лагерь смерти в Бельжеце. Иногда они убивали евреев прямо на улице или расстреливали в Пясках. Немцы целенаправленно старались депортировать или убить как можно больше евреев за максимально короткое время, чтобы держать в постоянном страхе живых. После каждой «акции» выживших евреев загоняли все дальше в глубь гетто. Их словно пропускали через воронку. На них непрестанно давили, загоняя во все более тесное пространство, уничтожая тех, кто туда переставал умещаться.
Я до сих пор помню самую первую немецкую «акцию». А может, это первая «акция», которую я запомнила. Мы жили еще на Замарстыновской, 120, и мама постоянно сидела с нами. Мы услышали за окном шум, потом топот поднимающихся по лестнице немцев. Они колотили в двери квартир. А потом мы услышали крики людей. Мы испуганно прижались к матери…
Но потом она сделала нечто странное: она начала щипать нас за щеки. Она щипала снова и снова. Это было больно, но она не прекращала.
– Тише, тише, тише, – повторяла она, успокаивая нас. – Шшшш, шшшш, шшшш.
И продолжала щипаться. Она торопливо объяснила нам, что хочет, чтобы у нас на лице появился здоровый румянец, чтобы мы казались немцам вполне упитанными, хорошо одетыми и благовоспитанными детьми. Она поставила на столик против входной двери красивую фотографию нас с Павлом. И все это время она щипала, щипала и щипала нас за щеки.
Наконец и в нашу квартиру, выбив дверь, ввалились немцы. Тот, что был у них вроде главным, окинул взглядом квартиру. Он вовсе не был похож на чудовище – совсем еще мальчишка! Он внимательно посмотрел на нас с братом. Он видел, что мы чистенькие и вполне здоровые. Щеки у нас горели огнем от маминого пощипывания! Мы были одеты в красивые, чистые рубашки. У меня поверх рубашки был надет мой любимый зеленый свитер. Мы стояли тихо и абсолютно спокойно, но не потому, что были так хорошо воспитаны, а потому, что просто боялись пошевелиться или произнести хоть слово.
Немец осмотрел нас с ног до головы. Потом он заметил стоящую на столе фотографию и сличил наши лица с теми, что были на портрете, и спросил маму:
– Врач?
Это были солдаты вермахта, не гестаповцы и не эсэсовцы, просто солдаты. Они всегда были немного погуманнее, с ними, как правило, было легче разговаривать. Так всегда говорили мои родители.
Мама отрицательно покачала головой.
– Профессор? – спросил немец.
Она снова покачала головой.
– Nein, – сказала она. – En airbrecht. Нет, простая рабочая.
Солдат еще раз внимательно осмотрел нас с братом.
– Das en dein kinder? Это твои дети?
Мама гордо кивнула.
Он снова уставился на нас и долго разглядывал. В конце концов он сказал:
– Bleiben Sie. Можете остаться.
Вот так, благодаря еще одному маленькому чуду – исщипанными мамой щекам! – мы пережили нашу первую «акцию».
На следующий день пришел еще один немецкий солдат. Мама снова набросилась на наши щеки, и нам опять позволили остаться. Я так и не узнала, откуда она узнала про эту уловку. Но чуть позднее в тот второй день, в дверь вошел украинский солдат и приказал очистить помещение. На этот раз мамин трюк со щеками не сработал. Украинец сказал, что кто-то из соседей донес на нас. Мама пыталась его успокоить, но он и слушать ничего не хотел. Нам повезло: как раз в этот момент домой вернулся отец. Украинец заявил, что отец может остаться дома с нами, а мама пойдет с ним, поскольку у нее нет документов.
– Сколько? – прямо спросил папа.
– 500 злотых (около $100).
Папа с радостью отдал деньги, и мы получили еще один день свободы.
Во время следующей оставшейся у меня в памяти «акции» со мной была моя двоюродная сестра Инка, двумя годами старше меня. В то время мы жили на Замарстыновской, 120, вместе. Мы уже знали, что, выходя поиграть на улицу, нужно вести себя как можно осторожнее. Обычно родители почти не выпускали нас из дома, но задний дворик считался местом вполне безопасным. Тем не менее, гуляя, мы озирались и прислушивались, боясь, что откуда-нибудь появятся немцы или украинцы. Проводились в этот момент в городе «акции» или нет, не имело никакого значения. Они убивали евреев, арестовывали евреев, пытали евреев постоянно, но в те дни, когда это делалось целенаправленно и крупномасштабно, у процесса истребления евреев появлялось специальное название – «акция». Однако и в другие дни ничего не менялось.
Мы следили за всем, что происходит вокруг, словно животные. Заметив любое неожиданное движение, услышав необычный звук, мы немедленно бросались в бегство. Так было и в тот раз. Я услышала немецкую речь и увидела группу солдат. Потом зашумели и затопотали люди, которых выгоняли на улицу. Мы побежали. Я успела нырнуть в переулок и спрятаться, а Инку поймали солдаты и куда-то увели…
Такова уж была жизнь в гетто: только что ты была рядом с кем-то, и все было нормально, а в следующий момент человек исчезал, и все становилось плохо, и где-то под этой печалью скрывалось нечто вроде твердого знания, что что-то такое просто должно было произойти.
Я увидела Инку еще раз, в тот же день, но немного позднее. Я услышала шум на улице и выглянула из окна. В кузове грузовика сидела Инка, а рядом с ней – моя бабушка, папина мама, та самая, что связала мой драгоценный зеленый свитер…
Вдруг бабушка подняла глаза на наше окно. Не знаю, видела она меня в окне или просто догадалась, что я там, но она махнула мне рукой. Это даже был не взмах, а почти незаметный жест, специально для меня, на тот случай, что я ее вижу. Наверно, она думала, что охранники не обратят на это внимания, но один все-таки заметил. Наверно, ему это не понравилось: машет кому-то рукой, с улыбкой… И не боится. И он ее ударил. Ударил бабушку прикладом винтовки… Инка протянула к бабушке руки… Все, больше я их обеих никогда в жизни не видела.