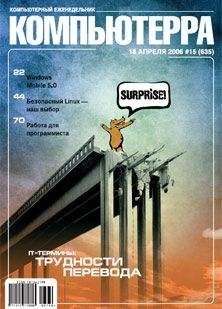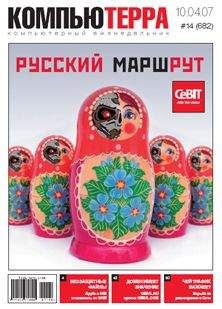Иэн Макьюэн - Искупление
Брайони уселась на пол, прислонившись спиной к дверце высокого встроенного шкафа для игрушек, и стала обмахиваться страничками с текстом пьесы. В доме царила полная тишина — снизу не доносилось ни голосов, ни звука шагов, даже урчания в водопроводных трубах не было слышно; пойманная между рамами окна муха, обессилев, прекратила попытки вырваться, и тягучее пение птиц растворилось в дневной жаре. Поджав ноги, Брайони уставилась на белые складки своего муслинового платья и привычную, чуть сморщенную кожу вокруг коленок. Надо было утром переодеться. Следовало бы, по примеру Лолы, вообще уделять больше внимания внешности. Пренебрегать ею — ребячество. Но каких это требовало усилий! Тишина звенела у Брайони в ушах, и все слегка искажалось перед глазами — руки, обхватившие колени, казались неестественно большими и одновременно удаленными, словно она смотрела на них с огромного расстояния.
Подняв ладошку и согнув пальцы, Брайони, как уже случалось прежде, удивилась тому, что этот предмет, этот механизм для хватания, этот мускулистый паук на конце ее руки принадлежит ей и полностью подчиняется ее командам. Или все же у него есть и какая-то собственная жизнь? Она разогнула и снова согнула пальцы. Волшебство заключалось в моменте, предшествовавшем движению, когда мысленный посыл превращался в действие. Это напоминало накатывающую волну. «Если бы только удалось удержаться на гребне, — подумала она, — можно было бы разгадать секрет самой себя, той части себя, которая на деле за все отвечает». Она поднесла к лицу указательный палец, уставившись на него, приказала ему пошевелиться. Он остался неподвижен, потому что она притворялась, не была серьезна, а также потому, что приказать ему пошевелиться или намереваться пошевелить им не одно и то же. А когда Брайони наконец все же согнула палец, ей показалось, будто действие это исходит из него самого, а не из какой-то точки ее мозга. В какой момент палец понял, что нужно согнуться? И когда она поняла, что хочет его согнуть? Этот момент был неуловим. Вот палец прямой — а вот уже согнут. Не было видно никаких стежков, никаких швов на коже, и все же она знала, что под этой гладкой, сплошной поверхностью находится истинная сущность — может быть, душа? — которая приняла решение прекратить притворяться и дала окончательную команду.
Эти мысли были ей так же близки и так же успокаивали ее, как знакомая форма собственных коленок, таких похожих, но словно соревнующихся друг с другом, симметричных и взаимодополняемых. Одна мысль неизбежно тянет за собой другую, одно чудо рождает другое: интересно, все остальные чувствуют в себе жизнь так же, как она? Например, ощущает ли себя ее сестра так же, как она, оценивает ли она себя так же, как она? Является ли Сесилия таким же ярким сгустком жизни, как Брайони? Есть ли у ее сестры такая же истинная сущность, кроющаяся за набегающей волной, и размышляет ли она об этом, поднеся палец к лицу? Делают ли это все, включая отца, Бетти, Хардмена? Если да, то мир, мир людей, должен быть невыносимо сложным — ведь в нем два миллиарда голосов, и мысли каждого соревнуются в важности, и требования каждого к жизни у всех равно настоятельны, и каждый думает, что он неповторим, между тем как все одинаковы. Так можно утонуть в несоответствиях! Но если ответ — нет, тогда Брайони окружают механизмы, весьма умные и приятные внешне, но лишенные тех ярких и сугубо личных внутренних ощущений, какие есть у нее. Это было слишком мрачно, тоскливо и не похоже на правду. Ибо, как бы это ни оскорбляло ее чувство порядка, она знала: вероятнее всего, остальные испытывают то же, что и она. Она понимала это, но только холодным рассудком, ее чувств это не затрагивало.
Репетиции тоже стали надругательством над ее чувством порядка. Самодостаточный мир, который она четко обрисовала ясными и совершенными линиями, был обезображен неряшливыми мазками потребностей и мыслей других людей; время, легко расчлененное на бумаге на акты и сцены, неуправляемо утекало, даже в этот самый момент. Вероятно, Джексон появится только после обеда. Леон с приятелем приедут в самом начале вечера или того раньше, представление назначено на семь часов, а у нее, в сущности, не было еще ни одной полноценной репетиции. Близнецы не только играть, но даже и говорить-то как следует не умели. Лола украла у нее по праву принадлежащую ей роль. Ничего не получается, к тому же жарко, одуряюще жарко. Все это подавляло Брайони, она поежилась и встала. В пыли паркетного бордюра она испачкала руки и юбку сзади. Все еще погруженная в свои мысли, она направилась к окну, по пути вытирая ладони о платье. Простейшим способом произвести впечатление на Леона было бы сочинить рассказ, вручить ему и понаблюдать, как он станет его читать. Красочная обложка, красиво написанное заглавие, страницы сшиты — в самом этом слове заключалась для нее магия порядка, ограниченной и управляемой формы, которой она лишила себя, решив писать пьесу.
Рассказ — прямая и простая форма, не терпящая никакого зазора между автором и читателем, никаких посредников с их амбициями и бесталанностью, никакого недостатка времени, никаких ограничений в аксессуарах. Когда речь идет о рассказе, нужно лишь захотеть, потом написать — и мир в твоих руках; с пьесой все по-другому — ты вынужден обходиться тем, что есть в наличии, никаких лошадей, деревенских улочек, никакого морского побережья. И занавеса тоже нет. Теперь это казалось столь очевидным: рассказ — разновидность телепатии. Но было поздно. Просто перенося буквы на бумагу, она могла непосредственно пересылать читателю свои мысли и чувства. Это был волшебный процесс, настолько банальный, что не перестаешь удивляться. Прочесть фразу и понять ее — одно и то же; это как со сгибанием пальца: нет ничего между. Никакого зазора для разгадывания букв. Видишь слово замок, и вот он перед тобой, в некотором удалении, а перед ним — летний лес, окутанный редким голубоватым дымком, поднимающимся над кузней, и петляющая мощеная дорога, убегающая в зеленую тень…
Брайони подошла к створчатому окну детской и, должно быть, несколько минут стояла, слепо уставившись в него, прежде чем открывающийся перед ней вид начал проникать в сознание: глядя вдаль, можно было представить, что находишься в средневековом замке. В нескольких милях за поместьем Толлисов возвышались Суррейские холмы, поросшие недвижными купами дубов с густыми раскидистыми кронами, изумрудную яркость которых скрадывало молочное знойное марево. Чуть ближе простирался усадебный парк, казавшийся сейчас сухим, одичалым и выгоревшим, как саванна; разрозненные деревья отбрасывали коренастые, четко очерченные тени, а высокая трава уже подернулась львиной желтизной лета в зените. Перед ним, по эту сторону балюстрады, раскинулся розарий, а еще ближе виднелся фонтан «Тритон». У поддерживавшей его чашу опоры лицом к лицу стояли ее сестра и Робби Тернер. В их позах угадывалась некая торжественность: ноги слегка расставлены, головы гордо подняты. Предложение руки и сердца? Брайони это нисколько не удивило бы. Она как-то написала сказку, в которой скромный дровосек спас тонущую принцессу и дело кончилось свадьбой. То, что происходило у фонтана, весьма напоминало сцену предложения. Робби Тернер, единственный сын бедной уборщицы и ее никому не ведомого мужа, Робби, который и в школе, и в университете учился за счет отца Брайони, Робби, еще недавно мечтавший стать ландшафтным дизайнером, а теперь решивший заняться медициной, имеет безрассудную смелость просить руки Сесилии. Идеальный сюжет — в подобном преодолении преград для Брайони и состоял смысл романтики.