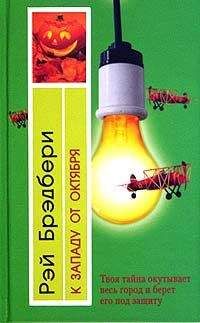Евгения Кайдалова - Ребенок
– Кто следующий? Кажется, вы третьей брали билет?
Я дернулась, как марионетка, чувствуя, что судьба резко натянула мою нить. Не пытаясь оттянуть время, я шагнула к преподавательскому столу. Надо просто успокоиться и пойти на поводу у своего языка, смогла же я буквально по наитию написать сочинение!
– Поэма Блока «Двенадцать», – начала я наобум, – была написана в непростое время. Шла революция, в стране была разруха, а в умах – разброд и шатания…
Говоря это, я с ужасом чувствовала, что мои слова, вместо того чтобы стать блестящей, тонкой рапирой и наповал сразить экзаменатора, принимают форму первобытного, грубо отесанного зубила. С таким еще можно пойти на мамонта, но попробуй одолей им профессора или доцента!
– Эти разброд и шатания Блок запечатлел в поэме в виде символов, а поскольку сам он принадлежал к символизму как литературному течению, ему это легко удалось…
Первобытное зубило на глазах превращалось в простой булыжник. Экзаменатор слушал меня с абсолютно непроницаемым лицом.
– Вот, например, образ голодного пса, который стоит на перекрестке…
– Простите, кто стоит: пес или образ?
– Пес. В виде образа.
– Так… И зачем они там стоят?
– Затем, что Блок хотел показать, насколько стоящий рядом с псом буржуй похож на этот образ.
– Давайте на секунду прервемся. Скажите, пожалуйста, какие символические образы вам больше всего запомнились при чтении поэмы?
– Вьюга! – уверенно сказала я, помня, что двенадцать красноармейцев все время заносит снегом.
– А еще?
– Пес.
– В виде образа… Ну а еще-то что?
Я молчала. Мой булыжник издевательски таял в руках, оказавшись просто сосулькой; обороняться, а тем более наносить удар было нечем.
– А вот число идущих красноармейцев – двенадцать – у вас не вызывает никаких ассоциаций?
– Это дюжина, – сказала я, сглатывая сухим горлом какую-то густую слизь, – она считается счастливым числом. Тринадцать – это уже чертова дюжина.
– Сколько было апостолов у Христа?
– Двенадцать?
– Вы Библию не читали?
– Ее нет в программе…
– Ну, мало ли чего нет в программе! Библия уже столько веков питает все мировое искусство… Хорошо, последний вопрос: почему Блок считает, что на спине у красноармейцев должен быть бубновый туз? И что это за «бубновый туз»?
Я не смотрела экзаменатору в глаза, понимая, что не увижу в них ничего, кроме презрения.
– Переходите ко второму вопросу.
Впадая в такое морозное оцепенение, словно разгневанная поэма «Двенадцать» замела и меня вьюгой, я начала пересказывать содержание «Грозы». Экзаменатор слушал, уже не перебивая и, видимо, уже не вслушиваясь, а имея насчет меня совершенно четкое мнение. Лишь под конец он прервал меня вопросом:
– Что такое сюжет? Дайте определение.
– …
– А что такое композиция?
Вьюга и зимний Петроград отступили. Теперь лицо у меня горело, словно на южном солнцепеке.
– Давайте зачетку.
Взяв ручку, он на секунду приостановился.
– У вас есть какие-нибудь печатные работы? Вы когда-нибудь печатались в газетах, журналах?
Я не смогла даже достойно покачать головой, а в отчаянии мелко затрясла ею.
Зачетка вернулась ко мне. Я даже не стала смотреть в нее: не все ли равно, каким почерком написано слово «неуд.»?
Я вышла на улицу, неся на своих плечах все желтое здание факультета журналистики, все остальные университетские корпуса, вместе взятые, всю Москву и весь земной шар. Я не плакала, я вся была смерзшейся и почти окаменевшей болью. Наверное, такое же чувство испытывают приговоренные к смертной казни: у тебя отнимают весь мир, а ты ничего не можешь с этим поделать.
У меня изнуряюще ныла голова, оттого что в нее бесконечным тараном бил один и тот же вопрос: почему? Я прекрасно помнила (и любила!) поэму «Двенадцать», я вдоль и поперек знала бесхитростную «Грозу», я была более чем уверена в себе, экзаменатор меня не заваливал, у меня всегда была пятерка по литературе, Илья Семенович сказал, что я должна поступить на журфак, а Антон заранее собирался меня с этим поздравить… Почему???
Меня не столько мучило унижение, связанное с провалом, сколько страшная уверенность в том, что дом-святилище, дом-муравейник и человеческий хоровод на Воробьевых горах потеряны для меня раз и навсегда. Москва как-то разом изменила свои контуры, в ней появилось одно недоступное мне измерение – университет.
Через пару минут я спустилась в метро, и подземный вид мегаполиса – сияние ламп, мрамор, толпы, свист поездов – показался мне недосягаемо-прекрасным. Этот мир на мгновение впустил меня, а теперь с облегчением выталкивает, словно недостойную себя соринку – из глаза…
Эта мысль царапнула меня настолько больно, что я наконец-то начала рыдать. Рыдать едва ли не во весь голос, звучно всхлипывая, захлебываясь, шмыгая носом, обращая на себя внимание всего вагона. Как ни странно, мне не было стыдно: слезы вырывались настолько же неподконтрольно, как рвота. Через пару станций они перестали бить фонтаном и начали просто сочиться, я прикрыла лицо рукой и со вспухшими, постоянно намокающими веками доехала до «Проспекта Вернадского» и до Дома СВетопреставления. Там в пустой комнате я раскрыла чемодан, чтобы начать сборы, но не выдержала и не смогла положить в него ни единой вещи. Швырнув все, что было у меня в руках, на пол, я повалилась на кровать лицом в подушку, и тут в голове переключился какой-то рубильник: в следующую секунду меня накрыл спасительным одеялом сон.
Я проснулась около семи вечера от стука в дверь – пришел Антон. Ожидая в коридоре, пока я открою, он успел принять картинную позу: в одной руке коробка конфет, другая сжимала бутылку шампанского, а в расстегнутый ворот рубашки был вставлен букет полевых цветов, такие обычно продают старушки у входа в метро «Университет». Мой гость сиял румянцем; у него был настолько цветущий, праздничный, прямо-таки подарочный вид, что я непроизвольно отступила на шаг и даже затрясла головой, словно давая понять, что радость жизни больше не для меня.
– В чем дело? – спросил Антон, быстро заходя, кладя атрибуты праздника на стол и беря меня за обе руки. – У тебя четверка?
Я зачем-то попыталась вырваться из его рук и опять отступить назад.
– Тройка?!
Я захохотала: плакать я больше не могла.
Часам к девяти вечера мы сидели на кровати, и обнимающая рука Антона успокоительно похлопывала меня по плечу. Мы выпили все шампанское и съели все конфеты (нужно же было что-то есть и пить!). Я закрыла уже пустую коробку крышкой и усмехнулась:
– Ты как чувствовал!
На коробке была изображена знаменитая васнецовская «Аленушка», которая, скорчившись на камушке у пруда, со вселенской печалью смотрит в воду.