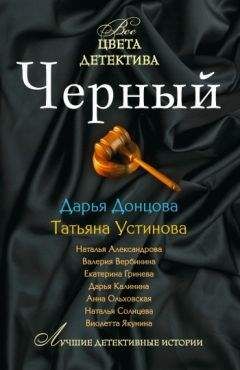Виталий Бернштейн - Осень в Бостоне
– Верочка, а какие-нибудь стихи вы наизусть помните? – спросил Городецкий.
– Конечно. Я ведь в прежней жизни литературу старшеклассникам преподавала. Если сама стихотворения наизусть не знаешь, как можешь требовать этого от ученика? Да к тому же любимые строчки хочется всегда при себе носить.
– Вот, скажем, Пастернака вы упомянули… Что вам у него нравится?
– Ой, много, – наморщила лоб Верочка. – Пожалуй, из самых любимых – «Мело, мело по всей земле, во все пределы». Такое прозрачное и трепетное.
– Да, да, – оживился Городецкий, – и мне оно безумно нравится. Начинал Пастернак со стихов сложных, как сам он признавал потом, с «засоренным слогом». А в конце пути, пользуясь его же словами, «впал, как в ересь, в неслыханную простоту». Хотя и в этой божественной «Зимней ночи», упомянутой вами, есть пара темных строчек, как-то выпадающих из общего строя классической ясности.
– Каких это строчек?
– Помните: «И жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно»? Героев стихотворения сжигает лихорадка любви, это понятно. Но в какой связи появляется тут вдруг ангел, его перекрещенные крылья?
Верочка засмеялась:
– А женщине это так понятно. Когда она снимает платье, ее перекрещенные руки подымают подол, и возникает иллюзия крыльев…
Городецкий восторженно хлопнул себя по лбу.
– Какое прелестное объяснение! А я, балда, не догадался… Но позвольте, позвольте… В таком случае строфы в стихотворении требуют иной последовательности. В четвертой автор отобразил финал – «скрещенья рук, скрещенья ног». А в пятой строфе башмачки еще только падают «со стуком на пол». И лишь в седьмой – любимая снимает платье.
– Формально, Семен Ефимович, вы правы… Но чтобы написалось такое стихотворение, поэта самого должна сжигать лихорадка любви – до мелочей ли формальной логики.
– Ладно, так и быть, простим эту непоследовательность моему обожаемому Борису Леонидовичу… Только, если можно, зовите меня просто Сеня… А помните, Пастернак еще в одном стихотворении описал женщину, снимающую платье, – видать, крупный был специалист по этой части. «Ты так же сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятье в халате с шелковою кистью». Первые три строчки отличные. А последняя?
– «В халате с шелковою кистью»? – Верочка задумалась. – Согласна, эта строчка ощущается как бы не обязательной. К слову «листья» подвернулась рифма «кистью». А с кистью бывает пояс у халата. Вот и объявился халат в четвертой строчке.
– И это все – ничего более существенного не заметили?.. Ведь тут Борис Леонидович очевидную промашку дал. Вдумайтесь: любимая сбрасывает платье и падает в объятье героя, а на ней халат – выходит, она его под платьем носила?
Верочка захлопала глазами, не найдя, что ответить. Довольный Городецкий засмеялся. Потом кивнул в сторону окна.
– А «энтузиасты» уже пошли…
Верочка повернула голову к окну. По улице, между полицейскими барьерчиками, разворачивалось торжественное шествие гомосексуалистов и лесбиянок. В первых рядах шли некоторые официальные лица. Конгрессмен Айзек Кларк несколько лет назад открыто признал себя гомосексуалистом. Это не мешало ему пользоваться твердой поддержкой своих либеральных избирателей в одном из богатых пригородов Бостона. Теперь он возглавлял колонну, посылая лучезарные улыбки зрителям на тротуарах. Рядом шел еще один известный либерал, Дик Макфадден. Добрый семьянин, отец семерых детей, примерный прихожанин католической церкви, он, казалось, не имел никакого отношения к этому шествию. Но через месяц Макфадден собирался официально выдвинуть свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах на пост губернатора штата Массачусетс. Опытный политик, он твердо усвоил истину: как и деньги, голоса не пахнут. Для него было важно заручиться поддержкой этой шумной группы избирателей.
Поверх марширующих вздымались транспаранты: «Ассоциация учителей-гомосексуалистов», «Лига католических лесбиянок», «Гомосексуалисты африканского происхождения», «Мормоны за однополую любовь». Медленно проехала автоплатформа; на ней бородатые люди держали над головами в ермолках транспарант: «Бет Симхат Тора, синагога для геев и лесбиянок». Лесбиянки-мазохистки, затянутые в упряжь, с оглоблями в руках, везли, закусив удила, своих партнерш, лесбиянок с садистскими наклонностями. Те, поигрывая вожжами, восседали в двухколесных колясочках. Благостно улыбающаяся старушка пронесла плакатик: «Сын – гей, дочка – лесбиянка. Господь благословил меня дважды». Прошел голый по пояс мазохист – на коже, вокруг туловища, нарисована колючая проволока, в соски вколоты всамделишные металлические кольца. В инвалидных колясках провезли бледных молодых парней; один из них держал плакат: «Америка, твои дети умирают от СПИДа – не жалей денег на борьбу со СПИДом»…
Неподалеку от кафе застряло на перекрестке такси Вани Белкина, срывался его рабочий график. Пассажир, сидевший в такси, ушел – решил добираться пешком. Разглядывая демонстрантов, Белкин внятно ругался: «Пидоры… Ковырялки… Ефимыча бы сюда – удостовериться, загнивает Америка или не загнивает».
Перед Белкиным, за синим барьерчиком, медленно проплыли, полуобнявшись, трое так называемых транссексуалов. Послушные могучему внутреннему зову, транссексуалы подвергали себя серьезным хирургическим операциям. Чтобы выглядеть, как представительницы противоположного пола, они вшивали под кожу силиконовые груди, пытались исправить природу и в устройстве другой части тела. Троица перед Белкиным имела женские прически, женские платья, женские туфли на высоких каблуках. Они несли плакат: «Свободу Фопиано!»
Белкин вспомнил, что о деле Фопиано месяца два назад писали газеты. Транссексуала Фопиано, мелкого торговца наркотиками, посадили в тюрьму. И тут возникла проблема. Тюремная администрация отказывалась содержать его в женской камере, так как по документам он числился мужчиной. Но и в мужской камере появление этого женоподобного существа привело бы к далеко идущим последствиям и явному нарушению тюремного режима. Поэтому Фопиано содержался в одиночной камере. Однако это, в свою очередь, нарушало его гражданские права – одиночное заключение предусматривалось для наиболее опасных преступников, а не для такой безобидной личности, как Фопиано. Вот и требовали его единомышленники-транссексуалы разрубить этот узел и вообще освободить страдальца.
Выключив мотор, Белкин достал из ящичка на панели карандаш и блокнот, куда записывал, не надеясь на память, трудные маршруты – как лучше проехать из одной части Бостона в другую. «Ефимыч стихами балуется… А я вот прозу начну сочинять. Потом ему покажу – еще посмотрим, чей талант ярче». Шевеля губами и бросая язвительные взгляды на демонстрантов, Белкин писал что-то в свой блокнот, морщил лоб, зачеркивал, опять писал… Демонстранты освободили улицу неожиданно быстро, минут через сорок. Полицейский споро отодвинул барьерчики к тротуару. Белкин включил мотор, в ящик на панели сунул блокнот со своим сочинением. Окончательный текст выглядел так: «Из газеты `Нью-Йорк Таймс'. Гнусное преступление в Центральном парке. Вчера в Центральном парке, находясь в состоянии алкогольного делирия, известный гомосексуалист Педро Аморалес изнасиловал совершавшую там тренировочную пробежку лесбиянку Голди Фингер. Нью-Йоркское отделение Всепланетной лиги лесбийской любви немедленно выступило с гневным протестом против столь отвратительного полового извращения»…
По окончании марша Городецкий отвез Верочку домой. В машине она долго молчала, о чем-то задумавшись. Потом спросила:
– Сеня, а вы сами стихи пишете?
Тот молча кивнул.
– Так я и думала… Тогда традиционный репортерский вопрос: над чем сейчас работаете?
– Рад сообщить вашим радиослушателям, что вот накропал недавно небольшое стихотворение… «Осень». Название, конечно, на оригинальность не претендует. У стольких поэтов была своя осень, теперь и у меня есть. Нахлынуло как-то настроение – осень в природе, осень в жизни…
– Прочитайте.
– Нет, нет, – засмущался Городецкий, – кое-что доработать надо, пройтись по строчкам еще разок. Да и читаю я непрофессионально, выть, как Ямпольский, не научился. Обещаю – к следующей встрече перепишу набело и подарю вам… Ведь мы увидимся?..
Когда машина остановилась у дома Верочки, Городецкий поднес ее руку к губам, хотел поцеловать на прощанье. А потом передумал, молча прижал ее ладошку к своей щеке, подержал мгновение…
«Эскорт» бойко катил домой, в Рэндолф. Голос Городецкого неуклюже выводил какую-то мелодию, ему одному ведомую (музыкального слуха у него не было никакого). Если прислушаться, можно было и слова разобрать – слова Пушкина: «И может быть – на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной…»
Глава восьмая