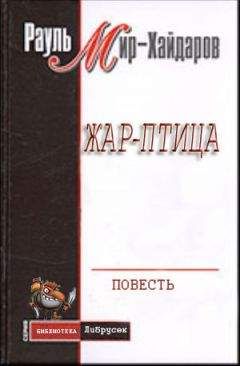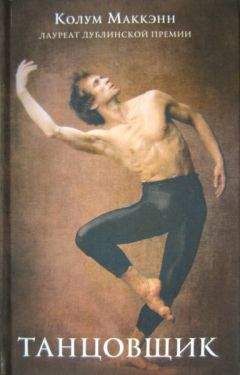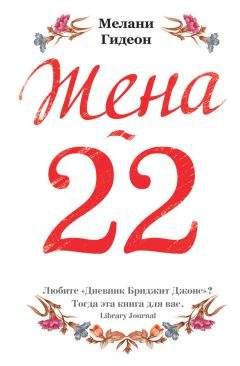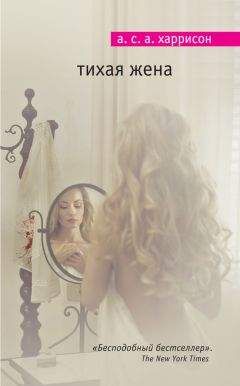Сергей Бабаян - Кружка пива
— Т-ты?…
Виктор схватил с вешалки пиджак, на ощупь надевая туфли.
— Я спал, — бормотал он, глядя в сторону в угол, не попадая дрожащими руками в рукава. — Я спал… Прилетел раньше времени… Я очень спешу!
Он опрометью выскочил из квартиры — сквозняк с грохотом захлопнул за ним наружную дверь — и бросился вниз, прыгая через ступеньки. Наташи во дворе уже не было, он побежал по ее пути, — откровенно побежал изо всех сил, как в институте бегал стометровку. Выбежав за угол, он на мгновение остановился, задыхаясь от волнения и быстрого бега. Людей почти не было видно — и нигде не было видно Наташи. Он не мог стоять на одном месте и помчался наугад, к автобусной остановке; он бежал и видел, что остановка пуста. Обогнув стеклянную полуразбитую коробку, он опять остановился в растерянности. Где она? Он громко крикнул на обе стороны: — Наташа! Наташа! — три старухи на лавочке генеральского дома одновременно на него оглянулись. Кварталом выше по улице шел двадцать третий трамвай; он бросился туда, чуть не плача от ощущения, что медленно бежит в гору. Трамвай давно не приходил — человек в двадцать толпа неподвижно его ожидала. Виктор метался в этой толпе, в упор разглядывая женщин, старых и молодых, красивых и безобразных, — не похожих на его Наташу. На него смотрели с удивлением и опаской, ему было всё равно — Наташи не было. Он совершенно пал духом. От его дома был еще третий путь, пешком через парк к метро; они с Наташей редко так ходили — до метро шел автобус. Он повернулся и побежал под гору быстро, как только мог; в ушах свистел встречный ветер. До метро десять минут было хода — он добежал за три, не встретив никого по дороге, — не встретив Наташу. Обреченно он спустился в метро и прошел полупустой платформой. Всё было напрасно.
С трудом переводя дыхание, он поднялся наверх. Его совершенно обессилил сумасшедший бег — и немного успокоил. Он рухнул на скамейку в каком-то пятиэтажном дворе и попытался рассуждать спокойно. Здравого смысла ему хватило на тридцать секунд: стиснув зубы, он выстроил в памяти события последнего часа — и понял, в какую он бездну попал. А если Наташа ему не поверит?… Нет, как она может — не поверить ему?!! Мысли его путались, разбегались, ни одну он не мог ухватить — и над всеми ними, как темное небо над головой, висела одна, тоже не вполне еще понятная, огромная черная мысль — даже не мысль, а смутное ощущение, на которое он взглядывал изнутри в смятении и тоске, — ощущение беды много больше и тяжелее той, которую он уже понимает. Но и эта была тяжела.
Он бы отдал полжизни, чтобы этот день оказался сном. Без всякой надежды он несколько раз тряхнул головой — пыльная летняя улица всё так же равнодушно катилась перед ним конвейером желтых автобусов. Он отказывался верить, что в настоящей, непридуманной жизни может такое быть — от такого счастья падение к такому горю. Невозможно было поверить, что сегодня утром, в тот же самый день, который он видел сейчас, он летел в Москву и был так счастлив, что ничему улыбался дорогою; это чувство не было смиренным, усталым чувством отсутствия несчастья — утром он физически ощущал переполнявшую его радость, всё, решительно всё в прошедшие дни, сегодня и в дни грядущие было и должно было быть хорошо. Хорошо было то, что на станции, прозванивая схему, он сам, без посторонней помощи увидел причину останова; он промолчал тогда, боясь ошибиться, но вечером дипломатически, вскользь упомянул в разговоре о диодном каскаде — и по этому его замечанию Полищук не мог не понять, что Виктор сам нашел правильный ответ: ему приятно было ощутить себя специалистом — и приятно было, что его работу оценил профессионал. Хорошо было то, что освободились они раньше времени; неожиданной удачей обернулось присутствие Карташова — неприятного, неискреннего человека, о поездке в обществе которого он узнал с досадою, — но если бы не Карташов, он застрял бы в Иркутске до понедельника. Дома хорошо было то, что мать в Кисловодске: для нее редко случалось такое стечение обстоятельств, чтобы одновременно сошлись и горящая путевка, и путевка эта — в хороший санаторий, и то, что она смогла оставить больницу, и то, что в эти дни у нее не было обострения астмы или сердечного приступа, когда она лежала дома и поехать никуда не могла. И самое главное, не просто хорошо — чудесно было то, что он летит к Наташе и обнимет ее сегодня вечером… Сегодня вечером! Всё, что составляло его жизнь, — составляло ее дни, месяцы, годы, — всё рухнуло за пятнадцать минут, за ничтожный, незаметный в жизни отрезок времени.
Он позвонил Наташе домой; подошла ее мать, он запинаясь спросил Наташу — она с обычной своей, злорадной даже холодностью ответила, что Наташи нет дома. Он вышел из будки и медленно пошел по улице — озираясь по сторонам, не находя себе места. Где она? Он должен встретиться с ней, должен ее найти, — он должен… объясниться?!
Он остановился как громом пораженный.
Что он ей объяснит?
Медленно опустился он на скамью, ощущая, как в мыслях его и движениях появляется какое-то торжественное, безнадежное спокойствие. Он ничего не сможет ей объяснить. Он скорее умрет, чем объяснит Наташе — и той, ее матери, — что его отец изменяет его старой, больной, беззащитной маме в объятьях молодой, красивой, здоровой девки. Скорее умрет. Но ему казалось — потерять Наташу еще страшнее.
Он выбросил сигарету и закурил другую, не чувствуя ее вкуса. День потемнел — солнце оделось в черное облако. Несколько раз порывался он к телефону — и всякий раз, приподнявшись со скамьи, садился, почти падал обратно. Душа его рвалась домой — могла позвонить Наташа; здесь, в заросшем густой сиренью незнакомом дворе, он чувствовал себя бесконечно от нее далеким — намного дальше, чем был в проклятом Иркутске. Но дома, в дверях большой комнаты, стоял отец и смотрел на него испуганными глазами, смотрел с ужасом и надеждой — и Виктор даже представить себе не мог возвращения.
Что он скажет ему, переступив порог? Как они будут жить дальше?… И так тягостно было его медленное, безвыходное раздумье, что в глубине сознания, словно желая ему помочь, зародилась и неуверенно к нему поплыла еще бесформенная, неясная, но — сразу он понял — спасительная мысль; он с жадностью за нее ухватился.
Он сидел неподвижно, боясь пошевелиться, — боясь неосторожным движением спугнуть оживающую на его глазах еще смутную, расплывчатую, чудесную картину. Он затаил дыхание, глядя, как расцветают ее краски и становятся понятными, осмысленными, необходимыми ее формы и движения. Наташа — ничего не знает. Наташа не видела той женщины!
Спокойно, сказал он себе, спокойно. Главное, не сбиться — он так устал от тяжести навалившейся на него беды, что боялся за первый шаг и сидел, оттягивая время. Начали. Наташа не видела той женщины — хотя из подъезда вышла минутой позже нее. Ну и что? Просто она спускалась пешком с девятого этажа, быть может, курила по дороге — она не любила курить на улице. Правда, шла она очень долго — не менее десяти… пяти! пяти минут, — но, во-первых, на высоких каблуках трудно спускаться по лестнице… и синие свои туфли с белыми розетками на носках она купила недавно и еще не успела их разносить, — а во-вторых, закурив, она могла остановиться между этажами, потому что никогда не курила на ходу… и потому, что времени сойти с девятого на первый этаж для сигареты с фильтром недоставало. Так. Отлично. А бежала? Почему она так бежала? Но это совсем просто — она спешила в институт, она отпросилась на час, на два, быть может, ушла с обеда… Сколько было времени, когда он проснулся и начался весь этот кошмар? часа два, не больше, обед у Наташи в час, она ушла с обеда, в два была у него — и к трем спешила вернуться… Она хотела увидеть его, застать его врасплох, сделать ему и себе подарок — а он придумал весь этот обстоятельный, мучительный бред и чуть не сошел с ума от своих фантазий. Затаив дыхание, он снова пробежался по всей цепочке воссозданных им событий — осторожно и в то же время поспешно отбрасывая каждую пройденную ступень, смертельно боясь споткнуться на явном несоответствии, — и цепочка эта показалась ему настолько правдоподобной, насколько четверть часа назад казалось единственно верным его первое, убийственное объяснение.
Он глубоко вздохнул, он даже забыл про отца и мать, — не забыл, отстранил их в глубину своей памяти, не имея сил думать о двух несчастьях одновременно. Сейчас он позвонит Наташе в институт, и у него останется только одно — неправдоподобное, жестокое, несправедливое — горе, — но с ним с одним они как-нибудь справятся. Он встал и пошел к автомату, снял трубку — и одновременно с гудком его пронзила черная мысль: если она так спешила в институт, что чуть не подвернула ногу… какого дьявола она десять — ну пять, пять минут! — спускалась пешком по лестнице? Его чуть не убила эта мысль, второстепенная, ничтожная мысль — недостойная в обычной жизни того, чтобы ее замечали, но сейчас неумолимо требующая опровержения… И этого тоже можно было найти какую-нибудь причину, множество нелепых предположений тут же угодливо столпились в его голове: например, она зацепила колготки и хотела их снять… какие колготки в такую жару?! — а может быть… но он почему-то вдруг ясно понял, что все эти объяснения рождаются лишь для него самого и умирают, даже не приблизившись к истине, что на самом деле всё было совсем не так — а именно так, как он думал сначала,- что всё пропало, погибло, кончено… Равнодушно он набрал Наташин рабочий телефон. Ему ответили, что ее сегодня не будет.