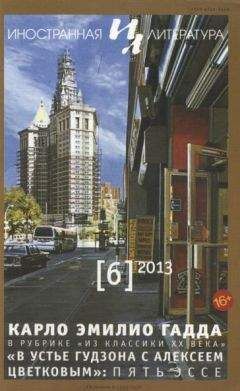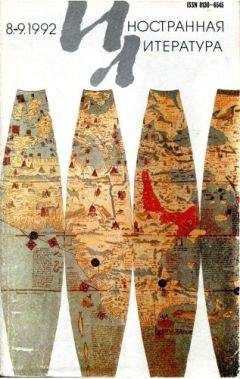Исмаиль Кадарэ - Генерал армии мертвых
Между тем семья девушки требовала объяснений. Ее родственники, а их было не меньше, чем у жениха, собрались на совет и дважды посылали гонцов к Рамизу Курти, чтобы узнать причину разрыва. Но выяснить ничего не удалось, и посланцы ушли, холодно бросив на прощание, что не позволят марать свою честь. Это значило, что после слов заговорит оружие, и действительно, оружие заговорило, но не так, как все ожидали.
Именно в те дни, когда обе семьи завершали переговоры и стало ясно, что их старая дружба, рожденная при помолвке мальчика и девочки, когда те были еще в колыбели, вот-вот перейдет во вражду, во вражду долгую и грозную, все узнали подлинную причину разрыва. Причину простую и постыдную: сын Рамиза Курти ходил в публичный дом. Ходил он всегда к одной и той же.
Позднее мы часто ломали голову и пытались понять, что за отношения были у него с этой иностранкой. Может, он ее на самом деле любил? А может, и она его любила? Одному богу известно, что было между ними. Правду так никто и не узнал.
В тот день, когда об этом стало известно, сразу после захода солнца Рамиз Курти, желтый, как воск, без шапки, с палкой в руках, спустился из верхнего квартала и направился к публичному дому. Глаза его словно остекленели, он несомненно был в невменяемом состоянии. Вы только представьте, как, должно быть, удивились они, когда увидели бледного старика, который распахнул палкой железные ворота публичного дома и вошел внутрь. Они сидели на веранде, и, когда старик стал подниматься по ступенькам, одна из них захихикала, но смех почему-то застыл у нее на губах, и на веранде воцарилось гробовое молчание. Старик ткнул палкой в ту, к которой ходил его сын (говорят, он узнал ее по волосам), и она покорно направилась в свою комнату, подумав, что он — обычный посетитель. Старик пошел за ней. Затем, собираясь уже раздеваться, молодая женщина подняла голову и увидела его застывшее, словно маска, лицо. Она закричала от ужаса. Может, старик и не выстрелил бы из своего револьвера, если бы она не закричала. Крик словно вывел его из оцепенения. Старик трижды выстрелил, бросил револьвер и, шатаясь, как пьяный, вышел под визг женщин.
Рамиза Курти повесили через три дня. Сын его скрылся.
Это случилось в октябре, с гор днем и ночью дул ледяной ветер. Тем не менее убитую хоронили с почестями — музыка, венки, пальба из ружей. Фашисты согнали всех, кто был в это время на улице и в кофейне, и заставили сопровождать процессию до кладбища. Мы шли молча, и ветер обжигал наши лица. Ее повезли на военной машине, в красивом красном гробу. Оркестр играл похоронный марш, и ее подруги плакали.
Никогда еще наш город не провожал гроб с иностранкой, тем более с женщиной подобного сорта. Мы словно онемели, окаменели. Я смотрел на плывущие высоко в небе облака и вновь и вновь размышлял о ее судьбе. Кто знает, какие беды заставили несчастную забраться так далеко, вслед за солдатами в касках, бравшими одну линию обороны за другой, пока она не попала в наш город, где ей суждено было погибнуть, принеся и другим множество несчастий. Может быть, и она собиралась как-то устроить свою жизнь, потому что каждый надеется на лучшее в своей жизни, как бы тяжело она ни складывалась.
Ее похоронили на военном кладбище, среди «братских могил», как их называют, и на могилу положили ту мраморную плиту, что вы видели утром. На ней выбили обычные слова: «Пала за Родину», точно такие же, как и у всех солдат.
Через несколько дней пришел приказ, и публичный дом закрыли. Как сейчас, помню то холодное утро, когда они с чемоданами в руках стояли на площади и ждали машину, которая должна была их отвезти. Прохожие останавливались на тротуаре и смотрели на них. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, растерянные и жалкие.
Когда они забрались в кузов и машина тронулась, кое-кто помахал им на прощание рукой, так, вроде бы нехотя. И они тоже помахали, но не так, как обычно машут руками подобные женщины, совсем по-другому, устало, с отчаянием. Мы смотрели им вслед, пока они не скрылись вдали, но нам не стало легче оттого, что они уехали. Ведь мы всегда думали: вот уедут они, и это будет такой праздник для нас, мы такой пир закатим. Но все было совсем по-другому. Наша жизнь оттого, что они уехали, не стала лучше. Да и могла ли она быть лучше — повсюду шла война, и у нас хозяйничали фашисты.
Кто знает, куда их отправили, наверняка в какой-нибудь другой прифронтовой городок, где останавливаются на ночь войска, идущие на передовую, и войска, возвращающиеся оттуда. И наверняка их жизнь снова наполнилась бесконечными очередями усталых и грязных солдат, оставляющих им всю скорбь войны.
Глава восьмая
Генерал стоял у входа в палатку и смотрел на серый горизонт. Туман клочьями плыл над горными склонами. Иногда он опускался так низко, что касался верха палатки. Генерал поднял воротник шинели; у него за спиной палатка гудела, сотрясаясь от ужаса перед ледяным ветром.
В нескольких шагах от нее стоял автомобиль, а дальше, за палаткой рабочих, — грузовик. У кладбища не было четких границ: ручьи, как змеи, извивались вокруг него, вымывали землю и уносили ее с собой вниз, в долину.
Доносились ритмичные удары кирки о твердую землю. Время от времени все собирались вокруг одной из ям, и генерал знал — найден еще один солдат. Он знал, что сейчас они дезинфицируют кости и эксперт, склонившись над ними, измеряет длину скелета, а священник отмечает красным крестиком имя солдата в списке или, если длина не соответствует помеченной в списке, ставит знак вопроса.
Генерал в мельчайших подробностях представлял себе все происходящее там, среди этих людей, начиная с застывшего выражения лица священника и кончая действиями эксперта, вертевшего в руках металлический метр. Значит, они измеряют еще раз, подумал генерал, увидев, что никто не расходится. Значит, в списках будет еще один вопросительный знак.
Кто-то из рабочих побежал ко второй палатке и вернулся с красивым голубым мешком производства фирмы «Олимпия», изготовленным по специальному заказу. Эксперт, зажав в длинных пальцах пинцет, опускал медальон в металлическую коробку.
Однажды нас проверили — у всех ли целы медальоны. Кто-то донес, что он выкинул свой медальон. Где у тебя медальон? — спросил его лейтенант, когда он расстегнул гимнастерку. Не знаю, ответил он, потерялся. Потерялся? А мне сказали, что ты сам его выкинул. Сволочь. Сдохнешь, как собака, и никто даже твой труп не опознает. А отвечать за все нам. Марш в карцер, заорал он. Через два дня ему выдали новый медальон.
Если все расходились, это означало, что останки уже покоятся в нейлоновом мешке и сверху наклеена этикетка с именем солдата и порядковым номером по списку. Тогда один из рабочих возвращался в палатку с мешком в руках, а издали снова доносились ритмичные удары кирки по влажной земле.
Кто он, этот солдат, которого сейчас нашли? — спрашивал себя генерал, наблюдая, как люди снова собираются в центре кладбища. И каждый раз ему невольно вспоминалось множество лиц — молчаливых, мрачных, там далеко, в его доме, в гостиной в те дождливые дни после его возвращения с курорта. Все посетители рассказывали о своих родственниках, некоторые приносили с собой пачки фотографий и писем, у других не было ничего, кроме короткой телеграммы военного министерства.
Генерал плотнее запахнул шинель и посмотрел на северо-восток. Памятник стоит там, сказал он себе, да, как раз там, где пересекаются две автострады и журчит поток воды, падающей с запруды старой заброшенной мельницы. При ясной погоде памятник можно было бы увидеть отсюда. А сейчас он скрыт в тумане.
Когда туман начал рассеиваться, ему показалось, что памятник вот-вот откроется, высокий, очень высокий, облицованный белым камнем, а за ним — стены разрушенного дома, развалины, груды черных камней и дальше, на околице села, сгоревшая, заброшенная мельница с журчащим ручьем — только его нельзя было сжечь и уничтожить. На фронтоне памятника было высечено большими буквами: «Здесь прошел недоброй памяти «Голубой батальон», который сжег и утопил в крови это село, убил женщин и детей, а мужчин повесил на телеграфных столбах. Народ воздвиг этот памятник, чтобы увековечить память о погибших». Новое село отстроили ниже, и только телеграфные столбы, старые, снизу вымазанные смолой, некоторые — с дополнительными опорами, те самые столбы, на которых полковник собственноручно, как рассказывали, вешал людей, стояли на прежних местах, одни выше, другие ниже, — местность была пересеченная, и провода уходили в бесконечность.
Но и телеграфные столбы покрывала белая пелена тумана, и в той стороне ничего не было видно. Казалось, на памятник, на телеграфные столбы, на старую мельницу и на полуразрушенные своды кем-то наброшено белое полотно, словно скрывающее памятник перед торжественным открытием.