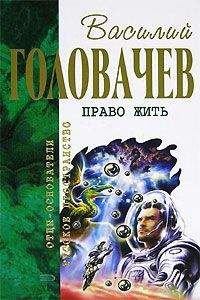Василий Дворцов - Манефа
Расскажу я тебе одну историю. Про то, что и монахи тоже людьми бывали. За давностью лет, авось и можно уже, Бог простит. Ты-то помоложе меня, но, однако, помнишь славные советские времена и весёлые комсомольские годы. Жил я тогда в Новосибирске, рос с матерью без отца. Ситуация вполне социалистическая. Наша однокомнатная квартирка выходила окнами прямо на площадь Станиславского. Это на левом, непрестижном берегу. Район был заводским, заселённым в основном рабочими и итээровцами, трудившимися на множестве когда-то эвакуированных от фашистов европейских предприятиях, за двадцать пять лет разросшихся на военных заказах до гигантских размеров. Тут вперемежку стояли серые громады сталинского ампира и страшные чёрные двухэтажные деревянные бараки, частный сектор плавно переходил в деревни, а горизонт украшали дымы исполинских труб. На них по ночам ещё огоньки горели, чтобы самолёты не зацеплялись. От копоти кроме тополей у нас никакие деревья не выживали. И от этого было странно жить именно на площади Станиславского или ходить по улице Немировича-Данченко. При том, что все театры, театральное и хореографическое училища, консерватория и филармония компактно располагались в центре, на противоположном, правом берегу Оби. Я долго недоумевал по этому поводу, пока, будучи уже взрослым, не познакомился с одним архитектором. А отец его тоже был архитектором, и даже главным. Так вот, во время войны и после, отец моего знакомого, по личному заданию Сталина, возглавлял разработку генерального плана застройки Новосибирска. У Сталина была идея переноса столицы, и объяснялась она многими причинами. Во-первых, конечно, военными: Москва оказалась в зоне досягаемости современным ему оружием — самолётами и ракетами. Во-вторых, стратегическими: за Китаем к Советскому Союзу должны были присоединиться Иран, Афганистан и Индия. Ну, и мистическими: коммунисты не переносили «соседства» с Кремлёвскими святынями. План был утверждён, кое-что — оперный театр, вокзал, НИИЖТ, партшкола, совнархоз и ещё несколько «римских» гигантов построены или же начаты. Но потом вождь неожиданно умер, а главного архитектора на многие годы отправили в концлагерь. Всё было забыто: и величественная библиотека с колоннадой как храм Афине, и публичные бани с открытыми бассейнами и садами Семирамиды, и речной порт с маяком как в древней Александрии. Не получилось большевикам собрать в одном месте все семь чудес света.
Вот посреди этих, задуманных или уже осуществлённых чудес, была и наша площадь. Её название довольно прозрачно намекало на некую функциональную заданность. И действительно, она предназначалась для массовых театрализованных действий под открытым небом. Но не просто театрализованных, вернее, — театрализованных, но не просто. Ведь ритуальность многих коммунистических празднеств уже не нуждается в новых доказательствах. Я имею в виду и планируемые на ней ночные факельные шествия, наподобие фашистских. Да! Вообще, все те физкультурные парады зари построения светлого будущего, тщательно разработанные режиссёром Меерхольдом, просто переполнены масонской символикой и мистическими знаками. Он же был членом капитула «русских розенкрейцеров».
Но ещё в детстве слыхал я от мамы, что наша площадь представляет собой самый настоящий театр под открытым небом, — со сценой посредине, где охватывающие её дома являются ярусными ложами, с которых выглянувшие в окна зрители должны были встречать идущие с востока на запад от площади Маркса колонны участников действа, образно раскрывающего смысл того или иного праздника. Представить только: жить в театре! Особенно точно это воспринималось зимой, когда снег усыпал этот огромный, щедро освещённый завьюженными фонарями круг, и вся площадь легко представлялась белой сценой. Когда сверху я смотрел на метания вокруг ламп снежинок, внутри меня всегда невольно звучала музыка. За это мы и любили свою квартирку, в которую заселились прямо из роддома. Да, из роддома — так что я не успел вкусить радостей общежития в бараке.
У мамы вообще от слова «театр» сердце замирало, она, итээровка с Сибсельмаша, была страстной балетоманшей. Каждое воскресенье, просто в обязательном порядке мама бывала на спектаклях нашего знаменитого оперного театра, часто даже дважды: утром со мной на детском, вечером на взрослом представлении. Впрочем, опять таки зачастую со мной. Она постоянно вспоминала о том, как ещё студентками они с подружкой выходили на сцену в мимансе «Ивана Сусанина». В нашем платяном шкафе, на верхней полке, рядом с её получкой бережно хранились все премьерные программки и билетики за пятнадцать или двадцать лет. Особо лежали в неведомо откуда взявшейся у нас коробке из-под гаванских сигар те же программки, но с автографами Зиминой, Крупениной, Рыхлова. А на стене, над старым с откидывающимися валиками диваном, на котором я спал, висели любовно вырезанные из газет фотографии Крупениной и Гревцова в «Спящей красавице» и «Лебедином озере».
Вообще «Лебединое озеро» в нашей семье было чем-то культовым. Я с самого раннего возраста знал все основные мелодии, рассказывал наизусть либретто и даже, когда оставался в долгие мамины вторые смены один, то играл только в бой Зигфрида и Ротбарта. Я попеременно надевал или белую рубашку, подпоясанную шарфом, воображая себя принцем с деревянными плечиками вместо арбалета, или накидывал старую огромную шаль с кистями, и, зажав в кулачках широкие концы, размахивал ими как коршун крыльями. В начале сам себе подпевал музыкальные темы, а потом, когда стал постарше и пошёл в школу, то включал складной чемоданчик-проигрыватель, ставил заезженную до икоты пластинку и изображал бескомпромиссную борьбу светлых и тёмных сил. Естественно, Зигфрид в нашей комнате всегда побеждал, как и на сцене.
Нужно сказать, что я рос очень красивым мальчиком. Но я это не для самохвальства говорю, нет, просто для того, чтобы ты мог правильно понять ход моих мыслей того периода, да и атмосферу, что меня окружала. Ибо за эту красоту меня все вокруг любили. Мама, конечно, в первую очередь, но любили и соседи, и воспитатели в детском саду, учителя и одноклассники в школе. При этом любовь окружающих не превращалась в какое-то баловство, потакание в капризах, нет, просто я всегда чувствовал, что меня уважают и всегда ждут чего-то особого, обязательно правильного и разумного в моих поступках. Это было весьма требовательное восхищение. То есть, постоянно окружённый таким вниманием, я не мог себе позволить ту же мелочность, суетливость, страстность, — хотя такого слова в отрицательном смысле в те времена не употребляли. Я не участвовал в хулиганских ватагах, не пил в подъездах, не курил в школьном туалете, но это не раздражало моих сверстников, не вызывало против меня агрессии или насмешек. С учителями отношения тоже были как-то изначально взрослые. В общем, я к своей красоте относился как к некоему предопределению, очень серьёзно, как музыкант или художник к своему таланту. Можно сказать, ответственно. Как избранничеству. Своей ли романтической натурой, чрезмерным ли родительским честолюбием матери-одиночки, или просто в ответ на бесконечность собственного нищенского существования, но мама умела это избранничество во мне культивировать, и я рос словно принц крови в изгнании, в ожидании совершенно особого, необычайного, но неминуемо великого будущего. В какой-то степени этому ожиданию способствовало и отсутствие отца, которого я никогда не видел даже на фотографии, и поэтому мог фантазировать ничем не стесняясь. Понятно, что при этом и понятия о семье были у меня тоже фантастическими. Как всякий принц я, естественно, ждал встречи со своей принцессой. Ибо должен был наступить тот день, когда я найду её, заколдованную злым магом, совершу подвиг и освобожу от чар.
После школы я поступил в НИГАИК. Но не от особой тяги к электричеству, просто в школе хорошо шли математика и физика, а из технических вузов этот был самый близкий к дому. Учиться я сразу стал хорошо, на жизнь взирал активно, и вскоре был выбран комсоргом группы, а потом и курса. Вот тогда я и познакомился с Еленой. В первый раз её образ запечатлелся в моей памяти ещё на вступительных, вспышкой мелькнув посреди толпы абитуриентов. Потом пару раз мы встречались в коридорах, но всё мельком, издалека украдкой оглядывая друг друга, а познакомились, когда она сдавала мне взносы своей группы. Я случайно коснулся её руки, и обжёгся. Её тоже ударило электричеством, мы разряжено рассмеялись… И вдруг в тот же вечер опять сталкиваемся в фойе оперного театра! Я выходил из музея, где всегда любил послушать очередное воспоминание музейного хозяина, старичка-немца, и действительно буквально столкнулся с ней, разглядывавшей галерею артистических фотографий. Она — я — и здесь. Да ещё именно на «Лебедином озере»! Это была судьба, и мы сразу приняли это. Даже разговор у нас вдруг пошёл как продолжение непрерываемого, когда-то давно начатого, как будто мы уже были знакомы миллион лет. Помню, мы торопились, перебивали друг друга, прыгали с темы на тему, но абсолютно во всём соглашались. Нам всё вокруг было совершенно одинаково известно. Новое узнавали только друг о друге, но и тут самое приятное: она, оказывается, закончила детскую музыкальную школу, тоже любила Чайковского и обожала его «Шестую», «Франческу» и, конечно же, «Озеро». В тот вечер её место было в последнем ряду второго яруса, в середине, прямо напротив сцены. А я, пользуясь правом завсегдатая, которого с трёх лет знали все дежурившие в зале старушки, стоял прямо позади её. Как же тогда звучал для нас оркестр! И танцевала молодая Гершунова.