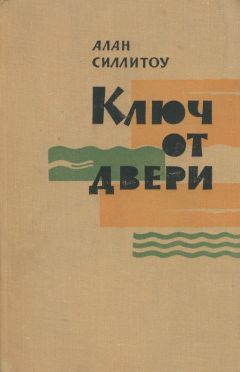Алан Силлитоу - Бунтари и бродяги
Разумеется, подобная чушь никогда бы не пришла ему в голову, будь в ней хоть немного разума.
Теперь я уже слышал, как с трибун мне кричат дамы и господа, и тоже встают с мест, и тоже машут руками: «Беги! — раздаются их вальяжные голоса. — Беги!» Но я слеп и глух, я потерял разум и не двигаюсь ни на шаг, до сих пор ощущая во рту вкус коры и рыдая как ребенок, но теперь уже от радости, ведь я в конце концов одержал над ними верх!
Но вот послышались возгласы, и я увидел, как парни из Гантхорпа размахивают плащами в воздухе, почувствовал за спиной приближающийся топот ног, внезапно меня обдал запах пота и горячие дыхание вымотанного бегуна. Он протрусил рядом со мной и побежал вперед, к этой веревке, задыхаясь как чахоточный, еле держась на ногах и шатаясь из стороны в сторону, как я буду ходить наверное, лет в девяносто, за несколько дней до того, как сыграю в ящик. Я чуть было сам не крикнул ему: «Беги вперед, беги вперед, сорви эту веревку! Повесься на этом куске ленты!» Но он уже был там, и тогда я побежал за ним до финишной линии, где свалился от изнеможения. До меня еще долетали возмущенные крики.
Сейчас время остановиться; но мне кажется, что я бегу до сих пор — неважно, по какой дорожке. Надзиратель поступил так, как я и предполагал; он не оценил мою честность. Нет, я другого от него и не ожидал, и даже не пытался ему ничего объяснить, однако, если он считает себя таким умным, он должен был сам хоть приблизительно догадаться, что значил мой поступок. Он отомстил мне по полной программе (по крайней мере, ему так казалось), и я почти каждое утро таскал с кухни на огород полные ведра помоев; каждый день полол картошку и морковку; каждый вечер натирал полы, целые тысячи квадратных метров. Но это была не такая уж плохая жизнь на оставшиеся мне полгода колонии, хотя надзиратель так и не смог этого понять. Он сделал бы мое существование еще более мрачным, если бы мог. Но мои усилия стоили того, потому что ребята в колонии поняли: я намеренно проиграл это состязание. Они были в восторге от моего поступка и ругали последними словами надзирателя (конечно, за глаза).
Работа меня не сломила; она только сделала меня сильнее, и надзиратель знал, когда я выходил на свободу, что его старания ни к чему не привели. Меня попытались забрать в армию сразу после того, как выпустили из колонии, но я не прошел медкомиссию и могу сказать вам причину этого. После этого последнего забега и шести месяцев каторжной работы я, оказавшись на воле, сразу же заболел воспалением легких, а для меня это значило, что проиграл я то соревнование в пику надзирателю не зря, потому что свое собственное выиграл дважды. Ведь я твердо уверен: если бы я тогда не одержал свою победу, то не заработал бы воспаление легких, благодаря которому меня не обрядили в военную форму, но которое не мешало моим ловким пальцам заниматься привычным для них делом.
Сейчас я на свободе и снова в бегах, но копам не удалось схватить меня, когда я совершил последнюю крупную кражу. Тогда моя добыча была шестьсот двадцать восемь фунтов, и я до сих пор живу на эти деньги, потому что пошел на дело один. Благодаря этому у меня было время спокойно написать все это, и мне хватит денег, чтобы разработать план еще более крупной кражи. Я тщательно его готовлю и Хочу, чтобы о нем не знала ни одна живая душа. Когда я натирал пол в колонии, то выработал собственную систему и продумал, где будут находиться тайники, придумал, как жить, чтобы не вызвать подозрений; я даже отточил свое мастерство, потому что знал: оно мне пригодится сразу, как я выйду на волю. Я продумал и то, что буду делать, если подлые копы снова расставят мне ловушки.
Тем временем (я встречал это выражение в тех одной-двух книжках, которые я с тех пор прочел, но которые меня ничему не научили, потому что всегда заканчиваются тем, что герой добегает до финишного столба, — и неизвестно, что он будет делать дальше), так вот, тем временем я передам эту историю одному своему другу и попрошу его, если меня посадят снова, попытаться сделать из нее что-то вроде книжки; мне очень бы хотелось увидеть физиономию надзирателя, когда он ее прочитает, если он, конечно, это сделает, в чем я сомневаюсь. Но даже если он ее прочтет, то все равно не поймет, о чем идет речь. А если меня не поймают, то этот парень никогда никому эту историю не покажет, потому что живет со мной на одной улице с тех пор, как я себя помню, и мы — старые друзья. И в этом я уверен.
Дядюшка Эрнст
Из общественной уборной, расположенной в центре города, вышел человек в грязном плаще. Он держал в одной руке холщовый мешок с инструментами. Он был немолод, очень давно небрит, и вообще выглядел так, будто не мылся уже по меньшей месяц. На мгновение он остановился на краю тротуара, чтобы поправить шляпу (самый чистый предмет его туалета), посмотрел направо, затем — налево, и когда убедился, что на проезжей части нет машин, перешел на другую сторону улицы. Это был обивщик мебели Эрнст Браун — его всегда называли только так, с упоминанием профессии, — даже тогда, когда о профессии речь не заходила. Каждый день, возвращаясь к себе домой, он оставлял мешок с инструментами у человека, который следил за общественной уборной, находившейся недалеко от центра города. Он делал это из боязни потерять их, и к тому же не был уверен, что дома его не обворуют, ведь если бы это произошло, ему не на что было бы жить.
Часы на здании городского совета пробили десять минут одиннадцатого. Над театром сквозь осенние облака едва проглядывало голубое небо, а куски бумаги и пустые коробки из-под сигарет летели вдоль сточных канав, подхваченные сильными порывами ветра. У Эрнста во рту сегодня еще не было ни крошки, поэтому он, чтобы позавтракать, зашел в кафе. Перешагивая через порог, он непроизвольно пригнул голову, хотя между его головой и дверной перекладиной был целый фут.
В просторном обеденном зале уже почти не было свободных мест. Эрнст приходил завтракать обычно в девять утра, однако вчера ему заплатили десять фунтов за перетяжку мебели в трактире, поэтому он решил расслабиться и провел остаток вечера в пивной, выпивая одну кружку за другой, медленно, сосредоточенно, как обычно делают люди, привыкшие к одиночеству. В результате утром ему пришлось с большим трудом вытягивать себя из безмятежного и глубокого сна. У него было бледное лицо, а глаза отдавали нездоровой желтизной; когда он разговаривал, было видно, что его рот остался почти без зубов.
Пройдя вдоль полудюжины шумных посетителей, он очутился рядом с ободранным и прилавком. Высокая и полная официантка с темными волосами была занята, поэтому он торопливо прочел меню, написанное большими белыми буквами на стене позади прилавка. Он сделал робкое движение рукой: «Чашку чая, пожалуйста». Брюнетка повернулась к нему, и затем налила из огромного коричневого носика чай в чашку с трещиной, похожей на волосинку в молоке. Потом туда же со звоном упала ложка. «Что-нибудь еще?»
Эрнст произнес неуверенным голосом: «Помидоры с гренками, если можно». Он взял в руки блюдо, которое перед ним поставили, и медленно вышел из толпы, затем обернулся и направился к свободному столику в углу столовой.
Еда на тарелке пахла очень аппетитно. Он взял нож и вилку и быстрым, точным движением человека, привыкшего к занятиям ремеслом, отрезал кусочек гренка с помидором и медленно отправил его в рот, с наслаждением, практически не замечая ничего, что происходило вокруг него. Все, что он делал за столом: подносил нож с вилкой к тарелке, отрезал кусочек гренка и отправлял его в рот — все это слилось в одно сложное и последовательное движение, которое, по всей очевидности, поглощало его целиком без остатка. Он ел медленно, тихо и сосредоточенно, занятый только собой, ощущая, как еда согревала и успокаивала все его существо. В переполненном кафе стоял обычный шум от позвякивания ложек, чашек и прочей посуды: он, раздавался со всех сторон, как разноголосая мелодия.
Эрнст ел один уже на протяжении многих лет, однако все еще не мог смириться с одиночеством. Он никак не мог привыкнуть к нему, постоянно повторяя себе, что это всего лишь временно, и что в один прекрасный день все наконец изменится. Он мало что вспоминал из своего пошлого и жил теперь, практически не замечая течения собственной жизни. Да он и не помнил почти ничего из того, что произошло с ним ранее, за исключением убитых или тяжело раненых людей, разбросанных между колючей проволокой и окопами во время Первой мировой войны. Все последующие годы он постоянно повторял две фразы: «Я не должен сейчас жить здесь, в Англии. Я должен был погибнуть с ними со всеми там, во Франции». Однако со временем он перестал повторять их, и перед его мысленным взором остались только эти беззвучные, нелепые образы.
Он понял, что люди стали относиться к нему так, как будто он был призраком, как будто не был создан из плоти и крови (или, по крайней мере, ему так казалось). И с тех пор он стал жить в одиночестве. Жена ушла от него — разумеется, из-за его отвратительного характера, а братья уехали в другой город. Сперва он хотел повидать их, но потом передумал: ему казалось, что лучше будет оставить все как есть и просто продолжать жить. Он был уверен, что не стоит возвращаться в прошлое и разыскивать старых друзей, идти туда, где бывал в молодости, пытаться воссоздать в памяти свои лучшие годы, ведь это похоже на смерть. Он решил, что пока о них лучше не вспоминать, поскольку после смерти, когда бы она не пришла (по крайней мере, ему так казалось), он снова обретет их, и теперь уже раз и навсегда.