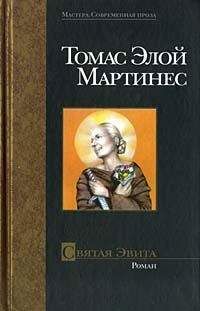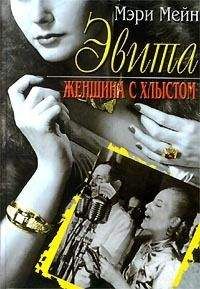Хорхе Семпрун - Подходящий покойник
Люди типа Майнерса на административном нацистском жаргоне назывались «асоциальными типами».
Осужденный за несколько краж, мошенничеств и злоупотребление доверием, он играл важную роль в жизни лагеря в те времена, когда комендантом был офицер СС Карл Кох. Будучи ответственным за стол СС, Майнерс много путешествовал по всей Германии, закупая продукты, проворачивая всевозможные махинации и обогащаясь благодаря системе липовых счетов, двойной бухгалтерии и взяток. Своими нелегальными доходами он делился с Кохом и другими офицерами СС.
Жена Коха, Ильзе — если помните, я писал об этом в «Долгом пути», — любила заключенных-красавчиков. Она раздевала их в своей постели, чтобы натешиться с ними и посмотреть на их татуировки. А потом эти татуировки возвращались к ней после казни — из кожи заключенных она заказывала абажуры. Сам Кох стал жертвой внутренних дрязг, которые разъедали Тотенкопф — подразделение СС, специально созданное для наблюдения за концентрационными лагерями. В Польше, где он руководил лагерем, его отстранили от должности, доставили в Веймар-Бухенвальд, судили при закрытых дверях за коррупцию и расстреляли за несколько дней до освобождения лагеря американцами.
Хотя «черный треугольник» Майнерс и остался без поддержки своего сообщника Коха, его тем не менее наказали не слишком сурово — бандит всегда сгодится еще на что-нибудь. Естественно, он лишился своего места в администрации столовой СС, но был переведен в Arbeitsstatistik в качестве противовеса Зайферту, чтобы шпионить за ним и осуществлять общий присмотр.
Но это было ему не по зубам. Против Зайферта, военного вельможи в Бухенвальде, у Майнерса была кишка тонка. И через несколько месяцев, несмотря на поддержку Шварца, ответственного СС за Arbeitseinsatz (рабочую службу), Зайферт сделал из Майнерса простого статиста. Чтобы подорвать влияние красного ядра Arbeitsstatistik, нужны были люди порешительнее, посмелее, да и, кроме всего прочего, порасторопнее, чем Майнерс.
Когда испанская коммунистическая организация направила меня на работу в Arbeitsstatistik, Майнерс уже не пользовался никаким влиянием, он лишь выполнял всякие мелкие поручения. Наверняка в глубине души он был очень доволен, что ему разрешили заниматься темными делишками и при этом оставили ему статус человека привилегированного и ни за что не отвечающего.
Мы с Майнерсом друг друга ненавидели. Люто, но молча — никаких громких скандалов во время случайных разговоров, никаких стычек на людях. Но если бы одному из нас представилась возможность ликвидировать другого, думаю, ни он, ни я не колебались бы ни секунды.
Отчего я презирал его, или, скорее, ненавидел, а это была именно ненависть — безудержная, яростная, ежедневно подпитываемая, — догадаться нетрудно: Майнерс с его внешностью недалекого простачка воплощал для меня все, что я на дух не выносил. Все, что я хотел уничтожить, те гнусные черты, которые мы называем «буржуазными» и против которых я боролся. В каком-то смысле мне повезло (во всяком случае, это было удобно): прямо под рукой, перед глазами я имел доведенный до совершенства образ врага. Конечно, я не забывал, что в нынешних обстоятельствах наш главный враг — СС. Но с другой стороны, думал я, это не более чем преторианская защита эксплуататорского общества, находящегося в кризисе. Сражаться с СС, не пытаясь переделать общество целиком, казалось мне несколько поверхностным. В сущности, мне был близок лозунг некоторых подпольных движений в оккупированной Франции: «От Сопротивления к Революции».
И вот Майнерс вошел в заднюю комнату Arbeitsstatistik. Мы с Вальтером тут же примолкли.
Ему было все равно. Он уже привык к тому, что вокруг него в Arbeit образовался заговор молчания, и знал, что ему нечего рассчитывать на доброжелательный интерес к себе со стороны нашей небольшой агрессивной и космополитичной группы.
Майнерс насвистывал амурный шансон Зары Леандер, один из тех, что Rapportführer СС регулярно запускал по воскресеньям через лагерные громкоговорители. Естественно, хрипловатый голос Зары Леандер нравился мне гораздо больше, чем режущий слух свист Майнерса.
Майнерс полез в свою персональную ячейку, явно с целью подкрепиться. Он расположился на другом конце нашего с Вальтером стола со своим хозяйством — маленькая вышитая скатерка, фаянсовая тарелочка, серебряные вилка и нож. Там же он разложил куски белого хлеба, ветчину, банку паштета… Налил себе большую кружку пива.
Вдруг Майнерс — он как раз намазывал толстым слоем паштет на кусок белого хлеба с маргарином — поперхнулся, поднял голову и уставился на меня выпученными черными глазами.
Видимо, он кое-что вспомнил и ему стало не по себе.
За несколько недель до этого, тоже ночью, мы оказались с ним в задней комнате Arbeit. Вдвоем, с глазу на глаз. Та же церемония, что и сегодня: небольшая вышитая скатерка, скрывающая шершавую поверхность стола, изысканные столовые приборы, разложенная напоказ аппетитнейшая снедь.
Я, со своей стороны, цедил кофеек. Поджаренные картофельные очистки были уже съедены. Я посматривал в его сторону, и вдруг меня охватило непреодолимое желание испортить ему пиршество. «Может, хватит уже жрать свое говно у меня под носом? — взорвался я. — Воняет от твоего паштета!» Растерявшись, он сунул нос в банку с паштетом и принюхался. «Это точно дерьмо, — не унимался я. — Из чего сделан этот твой паштет? Мясо из крематория?» Но и на этом я не остановился. В конце концов Майнерса затошнило, ему явно уже было не до трапезы, и он, как ошпаренный, выскочил из задней комнаты Arbeit.
Вот тогда-то он меня и возненавидел.
Он ненавидел во мне иностранца, коммуниста, будущего победителя. Ненавидел тем сильнее, что не мог меня презирать за незнание немецкого языка. Я говорил по-немецки лучше, чем он. Во всяком случае, мой словарный запас был побогаче. Иногда, чтобы позлить его, я начинал громко декламировать немецкие стихи, о которых он не имел ни малейшего понятия. В такие моменты лицо его от ярости наливалось кровью.
Майнерс уставился на меня и уж конечно припомнил этот эпизод. И тут его понесло.
Чего это я уставился? Чего рожу скривил? Это прекрасный паштет, орал он, из столовой СС, это свиной паштет, настоящий свиной паштет. Еще немного, и он завопил бы, что его паштет judenrein, не заражен никаким еврейством. Еще чуть-чуть, и он заявил бы, что его паштет — истинный ариец, что в нем сосредоточена вся красота германской расы. А я, кто я такой, чтобы совать свой нос в его арийский паштет?
Он еще что-то бубнил, собирая свои харчи.
— Я вернусь, — заявил он, — только когда здесь будут только Reichsdeutsche!
На что я заметил ему, что здесь, в Бухенвальде, трудновато, а то и вовсе невозможно, не сталкиваться с иностранцами. И что единственное место, где можно с уверенностью сказать, что тебя окружают только Reichsdeutsche, немцы Германской империи, — это бордель. Если хочешь оказаться среди своих, придется отправиться в бордель, сообщил я ему.
Вальтер рассмеялся, а Майнерс в ярости хлопнул металлической дверцей своей ячейки.
* * *На роман «Авессалом, Авессалом!» я наткнулся случайно в размноженном на ротаторе лагерном каталоге. Совершенно случайно, листая брошюру.
Мимо библиотечной двери я проходил по нескольку раз на дню. Впрочем, она находилась в том же бараке, что и Schreibstube, секретариат, и Arbeitsstatistik. Между двух контор, в самой середине барака. Сам барак находился в первом ряду зданий, на краю плаца, совсем рядом с крематорием, окруженным высоким забором.
В преддверии ночной смены на следующей неделе я просматривал каталог. И случайно, пролистывая книжечку, наткнулся на Фолкнера. Уже не помню, что конкретно я искал, вероятно, ничего определенного. Просто листал. На букву Г числилось невероятное количество «Mein Kampf» Адольфа Гитлера.
В этом нет ничего удивительного — когда в 1937 году создавался лагерь в Веймаре-Бухенвальде, нацисты хотели сделать из него образцово-показательный исправительно-трудовой лагерь. Для исправления, Umschulung, военных и антифашистов, заключенных на холме Эттерсберг, в лагерную библиотеку была завезена солидная коллекция нацистских шедевров.
Но цель — перековка политических противников нацистского режима — была вскоре забыта. Лагерь стал тем, чем он, собственно, и был, — местом заключения, где людей уничтожали каторжным трудом. Уничтожали не прицельно, если хотите, в том смысле, что в Бухенвальде не было газовой камеры. Так что не было систематического отбора самых молодых, самых слабых, самых обессилевших на немедленную смерть. Голодные, забитые заключенные в большинстве своем, однако, были вовлечены в систему военного производства, чей результат не мог быть равен нулю. И бесплатную рабочую силу уже нельзя было так просто уничтожать, особенно когда пространство нацистской империи начало съеживаться, точно шагреневая кожа.