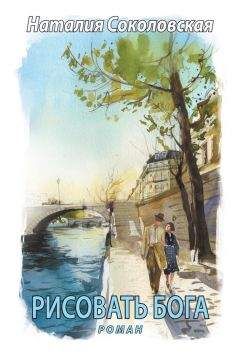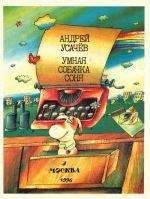Михаил Белозеров - Плод молочая
Когда подныриваешь ко дну, то видишь, как под тобой перекатывается прозрачный, как хрусталь, слой холодной воды, и эта вода совершенно не смешивается с теплой, в которой ты находишься. Она тянет обрывки нитчатых водорослей, покачивается туда-сюда. Словно в стакане с чаем тает кусок рафинада, и ты глядишь сбоку, как крохотные бурунчики взвиваются, волнуются и скользят по стеклу по мере того, как стакан наклоняют или перемешивают ложкой сверху, не задевая растворенного сахара.
И вот, когда ты плывешь над слоем такого "сахара" и знаешь, что стоит тебе опустить руку, как ее мгновенно скрутят сотни обручей и сожмут так, что посинеют ногти, а пальцы потеряют чувствительность, делать этого совершенно не хочется. Но ты все равно перегибаешься в поясе и вдавливаешься в него. И ощущаешь удар, гром, взрыв и сжимаешься, как пружина, которую взвели и забыли отпустить, и остаешься так до тех пор, пока не сработает ограничитель давления и тебе станет трудно дышать. Тогда ты дергаешь за тягу, которая торчит под локтем, и чувствуешь на губах бьющую струю воздуха, которого хватит только на то, чтобы выбраться к свету и перейти на дыхание через трубку.
И ты плывешь, как полупритопленный буек, по той причине, что акваланг на поверхности делает тебя беспомощным и твоею беспомощностью забавляются волны по своей прихоти. А если волнение приличное, то лучше всего тянуть к дому под водой и не выплывать наружу. Но и тогда ты не уверен, что все сойдет гладко и ты не получишь пару шлепков поувесистей, когда подгребешь к стенке бухты, где волны зачерпывают со дна мелкие камушки вместе с водорослями, мотают все это, заодно и тебя, и ты видишь за стеклом маски безостановочное кипение и даже не слышишь, как над затылком работает редуктор — так кипит прибой. И если ты на мгновение растеряешься и представишь, как вся эта масса в бухте колышется, ходит ходуном — а ты лишь чаинка в стакане — равномерно, тяжело и неуступчиво-безразлично и словно хорошо отлаженный молот лупит в стены, тебе уже не захочется подныривать под эту машину и карабкаться по скользкому трапу, по всем его ступеням. Но даже если ты и доберешься до самого верха, волна все равно подхватит тебя и потащит вниз или припечатает к трапу и для начала вырвет загубник и отберет трубку и маску.
Вот как это бывает".
И вот что я внезапно вспомнил, проснувшись утром в низеньком домике с крохотными окнами, украшенными голубыми наличниками.
Я вспомнил это, потому что когда-то мне пророчили большое спортивное будущее. Но тогда мне не хватало характера, или злости, или уверенности в жизни, потому что ты приобретаешь ее позднее, потом, если тебе откроется нечто большее, чем просто возможность благополучного прозябания у судьбы за пазухой.
Зато теперь злости было с избытком, на троих.
И об этом чистосердечно сообщила Таня, когда мы стояли над рядом могил.
— Еще Иванов сказал: "Людей надо любить!", а ты их ненавидишь.
К черту, подумал я, а потом возразил:
— Нет, я их классифицирую, потому что в этом мире всех любить невозможно.
Оказывается, я должен был, просто обязан, любить всех: мать — за ее беспамятность, отчима — за Пятак, его дружков-прихлебателей — за власть, свою бывшую жену, которая еще до момента рождения твердо усвоила ценности общества, — за одно это качество, Галочку и ей подобных — за врожденную глупость, тех палачей и их вдохновителей, которые разделались с отцом, — за близорукую нерасторопность, потому что семя отца жило и во мне, газеты, журналы — за твердокаменную ложь, идейное уродство, всеобщую святость; обожать всех — даже самого себя.
Было раннее утро. И мы пришли сюда пораньше, чтобы выбрать место и договориться с расхристанными мужичками, над которыми собирались и уносились порывами ветра незримые облачка Бахуса.
Я сунул четвертной.
— Выбирай любую, какая нравится, — панибратски, оценив мою платежеспособность, разрешили они.
Я посмотрел на ряд могил, вырытых поточным методом с помощью экскаватора, на измятую траву в тех местах, где устанавливались опорные плиты, на масляный след, на склон, поросший пышно-сочной травой, на деревья внизу и блеск воды, текущей под ними.
— В кого же превратится дед? — спросил я, но не насмешливо, а вполне серьезно.
— Вот видишь! — укоризненно сказала она, поправила указательным пальцем очки на переносице и тоже посмотрела вниз.
Я тоже посмотрел вниз, но ничего нового не увидел.
— Я думаю, в эту траву, — сказал я специально чуть грубовато, чтобы позлить ее, — а потом, если склон не изуродуют новыми могилами, — в деревья и кусты.
— Примитив... — сказала она, закусив губу.
— Ну-ну... — возразил я.
— Никогда не думала, что у моего брата будет такое куцее воображение, — процедила она и впервые за сутки улыбнулась, но улыбка получилась саркастической и совсем ее не красила, потому что ей больше шла серьезность.
Все-таки я ее разозлил.
— Стоит ли волноваться? — спросил я.
— Дело даже не в принципах, — пояснила она.
— А в чем? — спросил я, все еще забавляясь.
— Нет... ты не мой брат... — покачала она головой, и глаза ее холодно блестели за стеклами очков.
— Почему же?
— Потому что ты приехал в дом, где люди любят друг друга, а не убивают из-за честолюбия.
Она замолчала, но теперь не смотрела на меня, а лишь на обезображенный склон.
— Черт возьми!
Она меня обескуражила.
— Надо идти.
— Да, надо... — согласился я.
Я думал, что она злится. Но она не злилась.
Мы обошли кладбище с другой стороны и вышли к могиле знаменитого писателя. По краям черной низенькой решетки-ограды в белых вазах стояли свежие цветы, и было такое ощущение, будто домашний уют и тепло перенесли сюда из дома под открытое небо.
— Здесь бывает много народа, — сообщила доверительно Таня, — и цветы всегда живые...
Она села на одну из скамеек, что стояли ниже гранитного камня. Посидела, подумала о чем-то. Лицо стало бесстрастно-непроницаемым.
Интересно, о чем можно думать в таких местах?
Я тоже сел. Но ни о чем путном не думал. Мне было приятно сидеть вот так в тени, слушать, как позади, над невидимой Таруской, шелестят деревья, смотреть на камень дорожки, на памятники и цветы.
Я попытался догадаться, что там, у реки, во влажной зелени, какая суть, и мне захотелось, презрев правила хорошего тона, снять туфли, спуститься вниз и оставить след на болотистой пойме берега. Может, это и есть тайна жизни — просто неосознанное влечение, без логики, без выводов, просто так, по наитию, босиком.
Вот, где суть, думал я. Вот, что тебя мучает — закрепощенность, штампы в поведении, долги и невыполненные обещания, прежде всего, перед самим собой и больше ни перед кем, потому что это никому не нужно и никого не интересует.
Потом мы шли и долго молчали.
Я представил, что вот так же по этим деревянным тротуарам проходил Казаков, когда приезжал к Паустовскому, а теперь оба они в земле и по этим же тротуарам иду я. Но из этого ровным счетом ничего не вытекало. Из этого при желании можно было извлечь что-то, но извлекать я не хотел, мне было лень, словно я боялся совершить что-то противоестественное. Но было приятно чувствовать теплый день и шершавость деревянных заборов и законченность переулков во всей их незаконченности. И что-то в этом было; может быть, просто в ощущении хорошего дня и светлого неба, улыбок, взглядов, скрипа песчинок под подошвой башмаков, трав в щелях досок, блеска золоченого кружева в окских далях, тяжелеющего молчания, близорукости глаз, энергичных женских ног в лодочках, демонстрирующих изящную моторику на шатких мостовых.
Нет, подумал я, мир устроен сложнее, но эта рыжая вытягивает из него конечные понятия и жонглирует ими с необычайной легкостью, словно она одна знает истину и путь к ней. По ее мнению все предыдущее в мире — сплошной прогресс и накопление прекрасного. А как же сталинизм и еще одно понятие, которое прекрасно рифмуется по благозвучию, — они что, тоже конечные понятия, но с отрицательным знаком? Я подумал, что сталинизм в ее схему не входит, как вывих природы, как слишком громкая и жесткая реалия для умствования. И вот когда я так подумал, то решил проверить еще раз и попытался объяснить ей свою мысль. И она молча кивала, и волосы ее рассыпались, как ковыль на ветру, и она привычным жестом откидывала их назад, и они снова рассыпались и мешали ей слушать, и, наверное, поэтому она не хотела вникнуть и понять. И тогда я понял, что она и не пытается понять, что она, как и вчера вечером, не воспринимает, а взгляд ее — сплошной укор совести.
...
Анна не была ханжой. По крайней мере, когда я ее встретил, она уже не цеплялась за чувство семейной исключительности, которое было присуще подавляющему большинству людей ее круга. Вот чего в ней не было, того не было. Пожалуй, к тому времени в ней накопились усталость, одиночество и еще, наверное, отчаяние, но понял я это только спустя некоторое время.