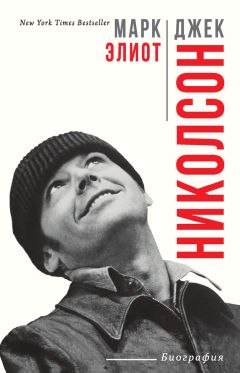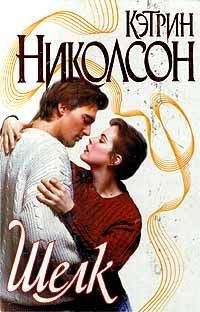Николсон Бейкер - Бельэтаж
Поднимаясь на эскалаторе на поверхность, я попытался воскресить первоначальную боль, вызванную открытием; я много слышал о людях, переживших внезапные озарения, но сам столкнулся с таким впервые. К тому времени, как я вышел из метро, я решил, что недавнее событие достаточно серьезно, чтобы отметить его, пусть даже ценой опоздания, кофе с кексом в какой-нибудь хорошей кофейне. Но пока я наблюдал, как девушка торопливо расправляет пакетик для моего пенопластового стакана и завернутого в салфетку кекса, так же расслабленно всплескивая кистью, как делала мама, когда стряхивала градусник (ведь это самый быстрый способ открыть пакет), потом осыпает покупку пригоршнями пластмассовых ложечек, пакетиков с сахаром, салфеток и кусочков масла, меня вдруг потянуло в офис: я с нетерпением ждал обмена утренними откровениями с Дэйвом, Сью, Тиной, Эйбом, Стивом и остальными, когда, прислонившись к дверным косякам или перегородкам, смогу описать, как процесс развития моей личности вдруг застопорился прямо в метро, и я стал новехоньким взрослым. Я оправил манжеты и толкнул вращающуюся дверь, направляясь на работу.
Глава восьмая
Позднее я с облегчением и разочарованием обнаружил, что отнюдь не застыл в своем развитии, как мне казалось тем утром, но, несмотря на это, продолжал считать памятный день примечательной вехой, сменой этапов, какая бывает раз в жизни. А теперь запомним, что двадцать три года – решительный и определенный конец моего детства, и предположим, что каждый день у меня возникает постоянное количество новых мыслей. (Эти мысли только для меня новы и еще необдуманны, даже если остальные считают их избитыми и банальными; реальное количество этих мыслей не имеет значения – одна, три, тридцать пять или триста в день; оно зависит от эффективности фильтра, отличающего повторы от новинок, а также от моей способности мыслить по-новому – до тех пор, пока она остается постоянной.) Допустим, каждая из этих новых мыслей, возникнув, не разлагается до определенной степени в процессе анализа, а скорее остается целостной, чтобы потом в любой момент всплыть в памяти, даже если конкретное событие или более поздняя новая мысль, способные напомнить мне об этой ранней мысли, никогда не появятся. Известно, что моя память начала стабильно функционировать в шестилетнем возрасте. Исходя из этих трех упрощающих допущений, получим: к тому моменту, как в метро по дороге на работу я вдруг почувствовал себя взрослым, я должен был заложить на хранение детские мысли за семнадцать лет (23 – 6 = 17). Следовательно, заключил я недавно[23], мне необходимо и впредь прибавлять к этому запасу по несколько новых мыслей ежедневно, вплоть до сорока лет (23 + 17 = 40), и тогда у меня наконец скопится достаточно разношерстных зрелых мыслей, чтобы перевесить и вытеснить все детские – и я вступлю в возраст Совершеннолетия. Об этом моменте я прежде не подозревал, однако он быстро приобрел статус вожделенной, манящей цели. В этот миг я наконец обрету понимание, буду последовательно находить прошлому мудрое и взвешенное применение; у любого предмета, призванного мной на рассмотрение, появится целая кипа дополнений, датированных моим третьим или четвертым десятком лет, вытеснивших окрашенный в цвета новизны припев «когда мне было восемь», «когда я был маленьким» или «когда я учился в четвертом классе», в силу необходимости выступавший ранее на первый план. Средний возраст. Средний возраст!
Когда я на мгновение замер в двух футах от эскалатора в конце обеденного перерыва в день лопнувшего шнурка, с «пингвиновским» изданием «Размышлений» Аврелия и пакетом из «Си-ви-эс», я уже два года шел к великой цели, хотя покамест не сознавал этого отчетливо; другими словами, 2/17 и приблизительно 12% мыслей, которыми я располагал в тот момент, были взрослыми мыслями, а остальные – детскими, и с ними приходилось мириться.
По стечению обстоятельств как раз в это время эскалаторы были абсолютно пусты, никто не спускался и не поднимался, хотя обычно под конец обеденного перерыва здесь возникала толчея. Отсутствие пассажиров в сочетании с негромким гудением эскалаторов пробудили во мне признательность к этому металлическому подъемному механизму. Ребристые плоскости выезжали из-под вестибюльного пола и почти с ботанической методичностью распадались на отдельные ступеньки. В начале пути каждая ступенька становилась индивидуальностью, легко отличимой от остальных, но поднявшись на несколько футов, терялась среди других, поскольку взгляд перемещался короткими прыжками, следуя за медленным движением объекта, и иногда при прыжке падал на ступеньку выше той, за которой наблюдал; после этого невольно переводишь глаза на еще не сформировавшуюся часть подъема, где различить ступеньки легче. Это все равно что провожать глазами изогнутый выступ медленно вращающегося наконечника сверла или, визуально увеличив желобки на виниловом диске, пытаться войти в первый, пронестись по спирали, пока пластинка вертится, и почти сразу заплутать в серых витках.
Поскольку на эскалаторе не было других пассажиров, можно было сыграть в суеверную игру, которой я часто развлекался во время поездок; целью игры было добраться до самого верха раньше, чем кто-либо еще ступит на эскалатор впереди или позади меня. Старательно сохраняя скучающее выражение лица и размеренно скользя вверх по длинной гипотенузе, внутренне я изнывал от полуистерического возбуждения, подобное которому ощущаешь, когда за тобой одним гонятся при игре в пятнашки, но предварительно убедив себя и к концу поездки окончательно уверовав в то, что, если мой попутчик встанет на эскалатор раньше, чем я с него сойду, он или она замкнет цепь и поразит меня током.
В этой игре я часто проигрывал, но с тех пор, как увлекся ею, она стала для меня чем-то вроде возможности пощекотать себе нервы, и я поначалу вздохнул с облегчением, заметив голову некоего Боба Лири на верху эскалатора, ведущего вниз, – ведь с ним играть было бы невозможно. Мы с Бобом никогда не перебрасывались даже парой фраз, что вполне достаточно для знакомства в крупных компаниях, однако знали друг друга потому, что видели фамилии в списке полученных сообщений и на дверях кабинетов; ощущение дискомфорта, почти что вины, было связано с тем, что мы так и не удосужились взять на себя элементарную задачу представиться, и этот дискомфорт от встречи к встрече только усиливался. В офисе всегда присутствует остаточная группа людей, с которыми ты еще не знаком и не шутишь о погоде; этот остаток постепенно уменьшается, и Боб – один из последних его представителей. Его лицо мне настолько примелькалось, что нынешний статус незнакомца приводил в замешательство, и уверенность, что мы с Бобом следуем встречными курсами, он – вниз, а я – наверх, и обречены разминуться на середине, в двадцати футах над полом гигантского, похожего на склеп вестибюля из красного мрамора, где нам придется скрестить взгляды, кивнуть и что-то пробормотать, или упорно смотреть в пустоту, или сделать вид, будто мы пристально осматриваем свое имущество, остро нуждающееся в осмотре именно на эскалаторе, резко отвернуться в момент вынужденной близости, словно рядом никого нет, и таким образом перенести простой факт, что мы ни разу не обменялись любезностями, в высшую плоскость неловкости, – эта уверенность переполнила меня отчаянием и отвращением. Я решил проблему; застыл на полушаге в ту же секунду, как заметил Боба (еще до того, как он ступил на эскалатор), вскинул вверх указательный палец, будто вспомнил нечто позабытое, и торопливо направился в другую сторону[24].
Я быстро прошагал мимо лифтов, поднимающихся на этажи с четвертого по двадцать четвертый, пересек вестибюль, миновал длинный низкий список арендаторов, на черном фоне которого отсвечивали белые фамилии и номера этажей (хотя кое-где на черной пленке виднелись неряшливые надрезы, сделанные неопытной рукой, обновлявшей список), потом группировку растений, которую прежде никогда не замечал, и женщину в синем деловом костюме – она листала бумаги в жесткой новой папке из манильской бумаги, вынутой из такого же новенького портфеля[25]. Описав по вестибюлю круг, я прошел мимо парней в темных очках, работников почтового отделения, которые расположились на декоративных диванах (вообще-то диваны предназначены для претенденток на работу, а не для обеденных перерывов обслуживающего персонала, неодобрительно подумал я). Этих ребят я помнил с тех времен, когда был вынужден в последнюю минуту отправлять «Ди-эйч-эл»-ом в Падую посылки для какого-то благотворительного проекта, в котором участвовала компания, поэтому помахал им рукой. Из почтового отделения слышался грохот аппарата компании «Питни Боуэс», которая смачивала и запечатывала конверты, и вдобавок оттискивала на них красноватую почтовую эмблему, состоящую из времени обработки, орлиных крыльев и призыва поддержать «Юнайтед Уэй», – грохот был гулким и ритмичным, и даже с берушами я ни за что не смог бы весь день торчать в почтовом отделении, подобно этим ребятам. Один помахал мне в ответ, но я все-таки увидел, как другой (заметная фигура – потому что в жаркие дни он носил галстук, прицепленный V-образным зажимом ко второй пуговице рубашки с расстегнутым воротом, так что серые пластмассовые лапки зажима оставались на виду) подался к остальным, одновременно поглядывая на меня так, словно собирался сказать обо мне гадость, что-нибудь вроде: «Недели две назад проходил я мимо кабинета этого типа, ну и заглянул, а он как раз выдирал волоски из носа. Дерг! Рожу скорчит, заноет, на глазах слезы, и аж передернется. Верно, ошибся и вытащил сразу три». Я понял, что так все и было, потому что услышал возгласы: «Да ты что-о!» и гогот, а еще потому, что если бы сам посиживал на том диване, меня тоже подмывало бы наболтать гадостей о таких, как я.