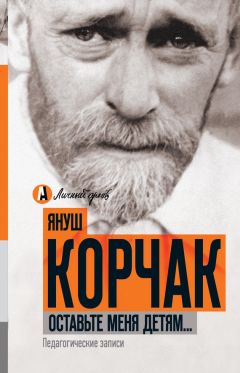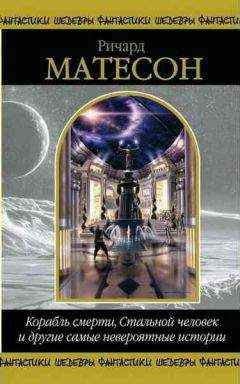Юрий Герт - Солнце и кошка
Не знаю, впрочем, что я испытывал чаще, слушая ее пение,— радость или нарастающую, гнетущую тревогу. Страх перед тем, что льющийся тоненькой прозрачной струйкой голос вот-вот захлебнется, и серебряный жаворонок рухнет вниз, обратясь в скомканный, стиснутый в потной руке платок...
Тем чаще всего и кончалось: шелковое покрывало перебитым крылом повисало на кроватной спинке, мать, обессилев от приступа кашля, беззащитная, маленькая, плакала, отвернувшись к стенке, я стоял над нею, не зная, чем помочь.
И была еще одна песня, доводившая меня до неистовства... Этот щемящий мотив, эта скребущая сердце жалоба: «Ах, умру я, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя...» Все во мне корежилось, когда я слышал это, сложенное, казалось, про нас — про мать и меня... А в заключительном куплете: — «и никто не узнает, и никто не придет, только ранней весною соловей пропоет» — жалоба превращалась в ядовитое жало, в чудовищный, несправедливый упрек.
Понять, в чем его несправедливость, я не мог. Я просто чувствовал, видел перед собой пологий, в зеленой мураве, холмик, деревце над ним и серенькую птичку на отвисающей к земле ветке. Мама умерла, а я остался. И прихожу к холмику, к зеленой могилке, стою молча, надо мной светлое солнышко, а она там — в сырой, темной глубине, одна... И думает, что никто не помнит о ней, все забыли, кроме соловья, который прилетает сюда по утрам, на заре. А я не забыл. И никогда не забуду. Но что толку, что не забыл, не забуду? Все равно ведь она там, а я здесь. И ничего не могу, не в силах вернуть ее, хотя бы на минуту, к себе,— к этой травке, к солнцу, к соловью, который чистит клювиком у себя под крылышком,— чтобы она все это увидела и согрелась, и порадовалась вместе со мной. Этого я не могу. Этого никто не может. Никто. Никто.
Как же?.. Как же так?..
Я заставлял себя не думать, забыть об этом. Но песенка, которую иногда принималась напевать моя мать, снова уводила меня оттуда, где все ясно и просто, туда, где бездна и мрак. И точно так же, как в поезде пронзили меня не столько сами по себе слова отца, сколько холодное спокойствие, с которым он их произнес,— точно так же покорная печаль, звучавшая в голосе матери, действовала на меня больше, чем слова и мелодия. Печаль, смирение перед неизбежным — вот чего не мог я вынести. Я подолгу крепился, терпел, принуждая себя не слушать — не слышать! как она поет, как плачет ее голос... Крепился. Потом и взрывался, требовал, чтобы мать замолчала, готов был зажать ладонями ей рот. Она нехотя уступала, сдавалась, но в бледном ее лице, где-то на дне ее светлых, страдальческих глаз чудилась мне при этом едва заметная странная усмешка...
Но приходила весна, за нею лето, и в наши распахнутые настежь окна втекал на рассвете льющийся с гор воздух, густой от смолиного запаха сосен, от маслянисто-приторного аромата орешника, от кружащего голову дыхания роз, еще пляжных, с шариками росы на упругих лепестках. Мать вставала вместе с отцом, наскоро завтракала, собираясь на работу в свой санаторий. Она шла по двору быстрой, легкой походкой молодой и здоровой женщины, свежей, красивой, полной сил. Я следил за нею с балкона, любовался ее ярким платьем, ее улыбкой, с которой она, пересекая двор, то и дело оборачивалась ко мне, и ждал, пока, на выходе со двора, в тени смыкающихся аркой ветвей, она помашет мне сумкой на прощанье...
Зимние мои страхи, однако, не пропадали, только прятались, уползали, забивались в щели, углы... Я носил их в себе, при себе — не как ношу, взгроможденную на мои плечи чужой рукой, а как горб, навсегда приросший к телу.
Может быть, с тех самых дней, проведенных у постели матери, я заметил в себе знание чего-то такого, что не было еще известно моим сверстникам. Это превосходство не приносило мне радости. В яростном пылу мальчишеской драки, осыпаемый ударами и затрещинами, я никогда не решался ответно бить в лицо, бить во всю силу своих кулаков, и только, нелепо размахивал руками, обороняясь и тыча в грудь, в плечи обидчика — куда не больно. Опережая ход нашей схватки, я представлял его поверженным, с проломленным при падении черепом, из которого бьет кровь,— и в результате сам оказывался в крови, подмятым, распластанным на земле. Я не избегал драк, но в каждой из них держался робко, скованно, драться со мной было скучно — и только поэтому, наверное, били меня редко, хотя это ничего не стоило.
Я спрашивал себя: не трус ли я?.. Этот вопрос меня мучил, и я искал иных способов для самоутверждения в собственных глазах и в глазах моих товарищей, отчаиваясь на выходки, поражающие бессмыслицей и дикостью. Никто не понимал: отчего?.. Впрочем, тогда и самому мне это было невдомек.
Тем более не сумел бы я объяснить первые проблески возникшего в те годы ощущения, которое потом уже не проходило, не блекло.
«Каждый человек...»— сказал мне отец. Но только ли, только ли — человек?.. А бабочки-однодневки, которых мы по утрам сметаем, с подоконника? А дуб возле бани,— думал я,— дерево, которому, говорят, за триста лет и огромное дупло на котором заливали недавно цементом?.. А собаки? Кошки?.. Ласточки, снующие по вечерам в небе над Большим дворцом?.. Всегда будут только море, только горы... Впрочем, я знал от отца, что и на том месте, где сейчас, все в огнистых чешуйках, зыбится море, когда-то лежали зеленые степи, а там, где поднимаются лиловые силуэты, гор, плескались волны. Даже солнце — и то не вечно, и оно превратится когда-нибудь в обметанный седым пеплом, тлеющий изнутри уголек.
Но пока, «до Смерти», все мы — живы. Мы — люди, бабочки, кошки, дуб возле бани, у которого запечатано дупло... Мы... Каждый из нас в отдельности и все вместе... И нет, не бывает ничего отдельного на земле. Надо только однажды, в ясное свежее утро, выйти из дома, подняться на какой-нибудь, пусть даже совсем невысокий, бугорок, и взглянуть вокруг... и прислушаться... и закрыть глаза...
И наступит, обязательно наступит мгновенье, когда ты почувствуешь, как пронзительно дорог и близок тебе этот мир. Все в нем, что стрекочет, поет, перекликается, шелестит на утреннем ветерке. Потому что все — это ты, это мы, которые живы. Которые — умрем. Для которых чужая боль — это всегда своя. Только еще больней...
ВОДОПАД УЧАН-СУ
Иногда отец брал меня в свои служебные поездки. Он работал санитарным инспектором ЮБК — Южного Берега Крыма, точнее — Ливадийского курорта. Должность его, понятно, казалась мне важнейшей в мире. И рисовалось так.
Где-то в санатории — детском, вроде того, мимо которого мы каждый раз проходили, добираясь пешком до Ялты, - где-то в санатории, за низенькими квадратными столиками обедают малыши. На них фартучки, расписанные нищенками и грибочками. Вот съели уже первое, второе, на сладкое несут черничный кисель. Но только дети успевают коснуться губами своих кружек, вдруг — бр-р-р, страшно представить! - рты у них начинают слипаться! Малыши пытаются что-то сказать, закричать — и не могут! Они лиши мычат, как немые, трясут головами и таращат Перепуганные насмерть глаза.
А все отчего? От халатности!...Оттого, что на поварах нечистые халаты, на которых, если проверить под микроскопом, кишмя кишат микробы, и стоит одному-единственному попасть в пищу, как получится пищевое отравление, боли в желудке, рвота, понос, а у детишек от недоброкачественного киселя склеятся рты!..
Не знаю, кто мне внушил эту леденящую кровь картину. Может быть, она приснилась мне однажды, врезалась в память и долго потом,нагоняя тоскливый ужас, преследовала меня.
Но нет (следовало продолжение) - приезжает мой отец, санитарный врач, он идет на кухню, он распекает нерях-поваров, он велит им снять грязные халаты с микробами, он составляет акт, это самое главное, самое грозное — санитарный акт, и он его составляет, и еще — мало того!, накладывает штраф, и все виновные отныне боятся его и трепещут перед ним...
Что перед отцом трепетали — это я, конечно, фантазировал. Так мне хотелось — чтобы трепетали. Потому, наверное, и хотелось, что подобных чувств никому не внушала его какая-то уж слишком домашняя, непредставительная фигурка, коротенькая, подвижная, в помятых после дорожной тряски брюках. Он мог сгоряча нашуметь, встретив какой-нибудь непорядок или антисанитарию — это слово мне тоже было знакомо — и, однако, даже когда, подобно раскаленному ядру кометы, он вылетал из дверей санатория и за ним широким хвостом по двору неслись врачи, сестры и повара в стоячих колпаках,— даже тогда его лицо бывало не грозным, а скорее расстроенным, огорченным. И те, кто за ним спешил, выглядели смущенно, пристыженно.
Отец торопился проститься, и мы трогались в обратный путь. Но случалось, что напоследок ему пытались вручить — «всучить!» — говорил он,— «они мне пытались всучить!» — какой-нибудь объемистый кулек или сверток с просвечивающими до самых косточек гроздьями винограда, с обольстительно-сочными персиками, покрытыми спелым румянцем, с медово-золотистыми, тающими на языке грушами берэ. Вот когда он по-настоящему распалялся и, багровея, кричал, что это называется взяткой и что он сейчас же составит еще один акт!..