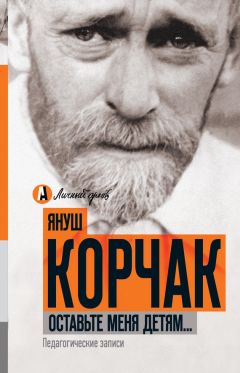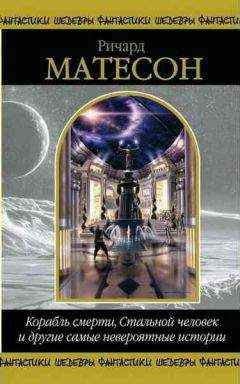Юрий Герт - Солнце и кошка
Я лежал, прислушивался, как в соседней комнате спит мать, как она покашливает во сне, как поскрипывает под нею кроватная сетка, когда за окнами раздается собачий брех, гулко скачущий между стен, и она, разбуженная, долго ворочается, не в силах уснуть снова, и тогда поднимается отец, говорит ей что-то успокоительное, тихое, чтобы не потревожить меня, и, тихо одевшись, выходит во двор унять пса...
Но когда я не мог выделить среди прочих звуков ее похрипывающего дыхания, ее кашля, досадливо-раздраженного скрипа ее кровати, мне начинало казаться, что она умерла. Сырым холодом обдавало меня при этой мысли. Тьма, уплотнившись, тяжелела, наваливалась глинистой глыбой мне на грудь, на лоб. Я лежал, вмурованный в эту глыбу, как малая соринка, без движения.
Порой, не выдержав, я вставал, крался к ее кровати — вглядеться в бледно проступающее в темноте лицо с закрытыми глазами, уловить едва ощутимое присвистыванье при вдохе... Но это было опасно. Доски пола поскрипывали под моими босыми пятками, какой-нибудь стул сам собою вырастал у меня на пути, я натыкался на него с грохотом, будил мать, будил отца — и как мог я им ответить на вопросы : что со мной, отчего среди ночи я брожу по квартире?..
Правда, мной раз я сам, задохнувшись от могильной тишины, будил их рванувшимся из меня воплем. И рад был, когда они, вскочив, бежали оба ко мне — оба, оба!.. Однако чаше, лежа ночью без сна и думая, что моя мать умерла, но еще не совсем, не совсем умерла и ее еще можно спасти, я молился,
Странные то были молитвы, неизвестно к чему или к кому обращенные, ведь я уверен был, что бога нет, уж что что, а что мне было известно в точности! Но какое-то сверлящее чувство собственной вины заставляло меня твердить эти горькие, безнадежные заклятия и обеты.
Я вспоминал, как сердил свою мать за день или за два перед этим, как бурый румянец заливал ее щеки, надламывался голос, как гневно вздрагивали тонкие крылья ее носа и все это вперемешку с упреками, казавшимися мне оскорбительно несправедливыми... Пусть она только не умирает, думал я, пусть только останется живой... И я больше не стану ходить на море с ребятами. Не стану есть яблок дичков. Сотру пыль со всех игрушек, сложу книжки на полке одну к одной... Только бы она не умирала.
И припоминал и тайные свои грехи, скверные проделки, которые были ей неизвестны. Она не догадывалась даже, что вместе с другими мальчиками нашего двора, забравшись в укромные заросли, я курил, вдыхая опаляющий нутро дым самокрутки, набитой трухой из пересохших кизиловых листьев. Она не знала, что это я украл с комода, из кучки мелочи, несколько серебряных монет и потом, изнывая от сладкого преступного восторга, поил своих приятелей лимонадом... Но я не буду больше грубым, упрямым, лживым, не буду ее огорчать, выводить из себя - ей это вредно. Пусть она и накричит, и выругает иногда ни за что — я все стерплю, лишь бы она осталась живой...
Надолго ли хватало моего жаркого раскаяния?.. Как бы там ни было, оно приносило мне облегчение. Карая себя, тем самым я словно откупался от смерти.
Тоскливой бывала крымская зима, похожая на затянувшуюся позднюю осень. Ливадия мокла под моросящим, дождем, в сизом тумане исчезали горы, море чернело и грузно ворочалось внизу, гоня волну за волной на пустые, унылые пляжи, где под фанерными навесами жались потемневшие от сырости топчаны. Изредка выпадал снег, пушистые нежные хлопья ложились на широкие листья магнолий, на гладко подстриженные кусты лавровишни, на ливанские кедры... Белые от инея кипарисы, как стрелы, взмывали в подмороженное синее небо. Но это бывало похоже на сон, короткий и тут же позабытый. Снег таял, потухали-, едва сверкнув на солнце, сосульки, вязким сумраком наполнялись аллеи, беседки, он вползал в нашу комнату, копился по углам...
Зимой у матери начиналось обострение, она не выходила из дома, лежала, кутаясь в одеяло, на своей узкой железной кровати, с землистым лицом и провалившимися вглубь сухо блестевшими глазами. На полу, в изголовье сторожила ее широкогорлая, коричневого стекла баночка с навинчивающейся крышкой, похожая на жабу, готовую к прыжку. Закашлявшись, мать роняла вниз истончавшую руку, нашаривала баночку и, будто стесняясь меня, стыдясь собственной немощи, отворачивалась к стене, приподнималась, чтобы выхаркнуть из больных легких еще один комок загустелой мокроты. Я видел напряженный, острый угол ее плеча, войлоком сбитые каштановые волосы на затылке, шею, слабую, голубоватую, как дрожащий огонек спиртовки, и — как бы сквозь них — туманный шарик, пронизанный кровяными нитями.
Баночка возвращалась на место, мать утомленно откидывалась на подушку, ее лицо, в мелких капельках пота, освобожденное от напряжения, на минуту смягчалось и светлело, дыхание становилось ровным, не затрудненным. Она прикрывала глаза — отдыхала. А я, стиснув свои беспомощные кулаки, все не мог оторваться от притаившейся под кроватью коричневой жабы, ее холодного, тусклого блеска...
Мать выпроваживала меня во двор, к ребятам,— должно быть, помимо всегдашнего ее опасения заразить меня, что-то еще ее пугало... Но с моим уходом, казалось мне, она останется наедине с чем-то ужасным, от чего — хоть немного — я ее заслоняю. Лишь когда наступала пора отправляться на фабрику-кухню за обедом, я выскакивал из дома и, с предательской радостью забыв обо всем, окунался в щекочущий щеки дождь, шлепал по лужам, гремел в такт шагам пустыми судками. Но на обратном пути меня одолевал страх, представлялось, что с матерью произошло то самое,—и я почти бежал, расплескивая горячий суп из-под неплотно пригнанной крышки.
Однако выдавались дни, когда она чувствовала себя лучше. Обычно в такое утро в ливадийском по-весеннему высоком, звонком небе играло солнце, его лучи, как золотые тираны, сокрушали мутные оконные стекла, прожигали кружено занавесок, били в зеркало на туалетном столике, и покрытую светлым лаком дверцу гардероба, в овальные, красного дерева, спинки кресел, на которых искрами вспыхивали медные шляпки крепящих обивку гвоздей.
Мать поднималась, и обе наши комнаты оживали вместе с нею. Наступал праздник. Ее постель, столько дней подряд нагонявшая на меня тоску, мягко лоснилась под зеленым шелковым покрывалом. На взбитую подушку, с уголками, торчащими как поросячьи ушки, белой пеной набегала узорная накидка. Мать в пестром халатике, похожая па птицу, которой нечаянно удалось выпорхнуть из лопушки, ходила по квартире напевая, с тряпкой в руках, протирала мебель, чистила, мыла, снимала по углам клочья паутины, словно гнала из дома остатки наполнявших его еще вчера сумерек. Я помогал ей. Хотя уборка, вытирание пыли, возвращение предметов с тех мест, где ими удобно пользоваться, туда, куда этого требует «порядок», разумеется, казалось мне бесполезным и нудным занятием. Только когда работа бывала закончена, когда все вещи, которых касалась ее рука, начинали обновлено и благодарно светиться и вперекличку с ними торжеством светились мамины глаза, я чувствовал, что моя покорность, мое мужественное смирение не были напрасны...
В такие дни она пела. Негромко, вполголоса — «Жаворонка» Глинки, «Колыбельную» Моцарта. Голос передался ей от бабушки — редкостной чистоты, звучный, переливчатый; до болезни, студенткой, она выступала в любительских ансамблях, на концертах, и воспоминания о том, что было «до», вероятно, волновали ее, когда с пыльной тряпкой в руке она пела мне, как «между небом и землей жаворонок вьется»... А я, глядя на нее, видел этот безмятежный, синий простор и в нем — одинокую точку, ее серебристое мерцание, вольный, легкий ее полет... У меня временами даже глаза начинало резать, ломить затылок — будто и в самом деле, запрокинув голову, стою я посреди бескрайнего поля, стою ли, плыву ли, распахнув крылья, где-то там, «между нёбом и землей»...
Ее прохладный, «голубой» голос менялся, становясь бархатисто-черным, «ночным» — когда напевала она «Колыбельную» и доходила до странных, озадачивающих меня слов: «кто-то вздохнул за стеной — что нам за дело, родной?..» Но среди ласково струящейся, журчащей мелодии в этих именно словах заключалось что-то самое покойное, утешительное: «кто-то» чужой не дремлет, сторожит, вздыхает, ворочаясь тяжело, замыслив, наверное, какое-нибудь злодейство — но за стеной! За стеной! За кирпичной, выбеленной известкой стеной! Все равно — «ему» нас не достать, пускай себе ворочается по ночам и вздыхает — «что нам за дело?..»
Не знаю, впрочем, что я испытывал чаще, слушая ее пение,— радость или нарастающую, гнетущую тревогу. Страх перед тем, что льющийся тоненькой прозрачной струйкой голос вот-вот захлебнется, и серебряный жаворонок рухнет вниз, обратясь в скомканный, стиснутый в потной руке платок...
Тем чаще всего и кончалось: шелковое покрывало перебитым крылом повисало на кроватной спинке, мать, обессилев от приступа кашля, беззащитная, маленькая, плакала, отвернувшись к стенке, я стоял над нею, не зная, чем помочь.